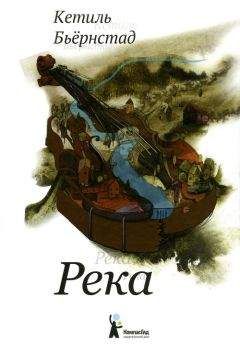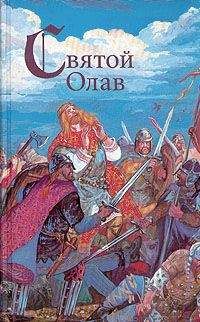Абульхасан Рудаки - Ирано-таджикская поэзия
По при всем этом Джами был прежде всего поэтом, сумевшим распознать общественную значимость поэзии, понять ее роль и силу в борьбе против тиранил, в борьбе за установление справедливого правления.
При всей противоречивости творчества Джами, в котором переплеталось суфийское благочестие и мистическое вольнодумство, именно он воспроизвел в своей «Книге мудрости Искандара» замечательную социальную утопию — вековечную мечту человечества о царстве свободы и равенства на земле.
* * *Если сопоставить творческие достижения классической поэзии на фарси с древнеиранской традицией, то станут очевидными как их преемственность, так и новаторский характер классики, ставшей, в свою очередь, традицией для последующих литературных поколений.
Идея справедливого царя разрабатывалась почти всеми великими поэтами — от Рудаки до Джами, причем в более близком к народным массам понимании, будучи связана с темой социальных конфликтов; антидеспотическая тема, ярко выраженная в классической поэзии в своеобразном противопоставлении «поэт и царь», «царь и нищий» у Фирдоуси и Хафиза, была характерна для суфийской поэзии; социальная утопия нашла свое развитие у Фирдоуси, Ибн Сины, Фахриддина Гургани и особенно у Низами и Джами.
Концепция человека в классической поэзии являет собой принципиально новую ступень развития в осмыслении достоинств а и самоценности личности. Вместе с тем классика сохранила и синтезировала образы героя-богатыря и человека-брата, разработанные в предшествующую литературную эпоху. Тема борьбы Света с Тьмой и Добра со Злом, лишившись своего первобытного примитивизма, стала содержанием всей этической системы классиков (у Низами, Ибн Ямина, Хафиза, Джами и др.). Тема похвалы разуму, не только в прямой форме, выражена была и у Рудаки и у Фирдоуси, по выросла в стройную идеологию рационализма, концепцию «власти разума», пронизывающую поэзию таких корифеев, как Ибн Сина, Хайям, Саади и др. Наряду с ней классики выдвинули универсально-философскую идею Любви как движущей силы общественного развития, концепцию «власти сердца» (Низами, Руми, Хафиз, Камол и Джами). Тема порицания приверженцев Зла и Лжи выросла и поднялась до высот социальной сатиры (Закаии) и лирики социального протеста (Ибн Ямин. Хафиз и др.). Большое место в классике заняла тема высокой миссии и неограниченных потенций самой поэзии, тема вдохновенно изреченного слова и роли поэта- пророка (наиболее выразительно у Низами).
То, что в античной традиции проявилось лишь в зародыше, приняло в классической поэзии развернутую форму. Это относится не только к идейно-тематическому содержанию, но и ко всем элементам художественной формы. Многие сюжеты и ведущие образы отлились в такие выдающиеся сочинения, как «Шах-наме» Фирдоуси, «Вис и Рамин» Гургани, рубаи Хайяма, «Маснави» Руми, «Гулистан» Саади, газели Хафиза и др. В поэзии определились два русла — реалистическое и романтическое, тесно переплетающиеся между собой. Полностью оформилось авторское индивидуальное творчество, которое в древности существовало лишь в зачатке. Стихотворение постепенно отделилось от песни: философские касыды уже были рассчитаны, видимо, не только на устное исполнение, но и на индивидуальное чтение. Все большие нрава приобретали вымышленный герой, персонажи, вводимые автором в свои произведения не только по традиции (Рустам, Искандер, Лейли и Меджнун и др.), но и согласно творческому замыслу.
Особого развития и совершенства достигла поэтика, также сохранившая элементы античности. Сложилась «эстетика огромного» (например, героическое маснави типа «Шах-наме») и «эстетика малого» (не только рубаи, но самостоятельное двустишие, даже однострочие — «фард»). Поэтика вместе с тем канонизировалась, была разработана строгая системы по трем разделам: «аруз» — метрика; «кафийа» — рифма, «бади» — поэтические тропы и фигуры.
* * *
При историко-типологическом сопоставлении классической поэзии на фарси с мировой становится очевидным, что классическая поэзия на фарси, развивавшаяся в течение шести столетий (X–XV вв.), — это не что иное, как поэзия иранского Ренессанса.
Она вобрала в себя и своеобразно переработала художественные достижения иранской античной традиции, сложившиеся в ней поэтическое выражение идеи человеколюбия.
Эпоха, когда формировалась классическая поэзия, была временем поступательного развития феодализма в Иране и Средней Азии, несмотря на разрушительные последствия различных завоеваний, особенно нашествия монгольских ханов. В этих условиях росли средневековые города, в которых возникали предпосылки нового уклада, не сумевшего, однако, развиться в систему буржуазных отношений из-за замедленности экономического развития. Ведущая роль в экономике X–XV веков государственной феодальной земельной собственности, этой основы относительно централизованного государственного управления, и рост городской культуры способствовали формированию своеобразного слоя интеллигенции, жившего преимущественно умственным трудом и создавшего классическую литературу.
Литература иранского Ренессанса представляет по существу часть мирового литературного процесса, начавшегося на Дальнем Востоке в VII–VIII веках и достигшего своей вершины в западноевропейском Ренессансе — вплоть до XVII века. Классическая иранская поэзия в ее лучших образцах отличалась, как и все литературы Ренессанса, философичностью, вольнодумством, антиклерикальной направленностью. Конечно, эта поэзия никогда не представляла собой единого потока. В ней, как и во всех литературах мира, происходила непрекращавшаяся борьба двух тенденций — передовой, народной и феодально-аристократической, иногда — даже в творчестве одного и того же поэта. Но ведущая тенденция всегда художественно воплощала дальнейшую ступень развития гуманистической мысли. Основная идея — осознание человеческого достоинства; центральный образ — свободная, автономная человеческая личность.
Большую роль в развитии классики, бесспорно, сыграла арабская поэзия. Она обогащала своим опытом иранскую литературу, но иранский Ренессанс, как и мировой, включал в себя возрождение, то есть не простое повторение, а именно возрождение родной античности, усиленное такими явлениями, как литературный синтез (Низами, Хафиз, Джами). При этом сила и размах этого возрождения были столь велики, что больше всего бросается в глаза самостоятельный, новаторский характер классики, ее способность чутко отзываться на современную ей действительность, отточенность художественной формы и глубина гуманистической сущности. Ото обусловило превращение классики в одухотворяющую традицию для последующих веков и живучесть созданных поэтических ценностей.
Классическая ирано-таджикская поэзия уже давно вошла в общечеловеческое художественное творчество, во всемирную литературу. Она продолжает каждый раз по-новому, в каждую эпоху своеобразными путями внедряться во всемирные поэтические владения человечества.
Новая эпоха в истории человечества, начавшаяся с Великой Октябрьской социалистической революции, еще глубже воспринимает гуманистическую культуру классической ирано-таджикской поэзии.
В том, что старинная поэзия была по-новому прочитана, она обязана прежде всего именно таджикскому народу, воскрешенному революцией и создавшему свою социалистическую республику, в которой зазвучал язык фарси, развившийся здесь в литературный таджикский язык.
Что в наибольшей мере роднит нас, людей социалистической эпохи, с великими поэтами, отдаленными от нас пятью веками и более? Идея гуманизма, художественное изображение человеческой личности во всех ее проявлениях и воспроизведение ее всеми цветами неповторимо богатой поэтической палитры.
И. Брагинский
РУДАКИ
КАСЫДЫ
СТИХИ О СТАРОСТИ
Все зубы выпали мои, и понял я впервые,
Что были прежде у меня светильники живые.
То были слитки серебра, и перлы, и кораллы,
То были звезды на заре и капли дождевые.
Все зубы выпали мои. Откуда же злосчастье?
Быть может, мне нанес Кейван удары роковые?
О нет, не виноват Кейван. А кто? Тебе отвечу:
То сделал бог, и таковы законы вековые.
Так мир устроен, чей удел — вращенье и круженье,
Подвижно время, как родник, как струи водяные.
Что ныне снадобьем слывет, то завтра станет ядом.
И что ж? Лекарством этот яд опять сочтут больные.
Ты видишь: время старит все, что нам казалось новым,
Но время также молодит деяния былые.
Да, превратились цветники в безлюдные пустыни,
Но и пустыни расцвели, как цветники густые.
Ты знаешь ли, моя любовь, чьи кудри словно мускус,
О том, каким твой пленник был во времена иные?
Теперь его чаруешь ты прелестными кудрями,—
Ты кудри видела его в те годы молодые?
Прошли те дни, когда, как шелк, упруги были щеки,
Прошли, исчезли эти дни и кудри смоляные.
Прошли те дни, когда он был, как гость желанный, дорог;
Он, видно, слишком дорог был — взамен пришли другие.
Толпа красавиц на него смотрела с изумленьем,
И самого его влекли их чары колдовские.
Прошли те дни, когда он был беспечен, весел, счастлив.
Он радости большие знал, печали — небольшие.
Деньгами всюду он сорил, тюрчанке с нежной грудью
Он в этом городе дарил динары золотые.
Желали насладиться с ним прекрасные рабыни,
Спешили крадучись к нему тайком в часы ночные.
Затем что опасались днем являться на свиданье:
Хозяева страшили их, темницы городские!
Что было трудным для других, легко мне доставалось:
Прелестный лик, и стройный стан, и вина дорогие.
Я сердце превратил свое в сокровищницу песен,
Моя печать, мое тавро — мои стихи простые.
Я сердце превратил свое в ристалище веселья,
Не знал я, что такое грусть, томления пустые.
Я в мягкий шелк преображал горячими стихами
Окаменевшие сердца, холодные и злые.
Мой слух всегда был обращен к великим словотворцам,
Мой взор красавицы влекли, шалуньи озорные.
Забот не знал я о жене, о детях, о семействе,
Я вольно жил, я не слыхал про тяготы такие.
О, если б, Мадж, в числе повес меня б тогда ты видел,
А не теперь, когда я стар и дни пришли плохие,
О, если б видел, слышал ты, как соловьем звенел я,
В те дни, когда мой конь топтал просторы луговые.
Тогда я был слугой царям и многим — близким другом.
Теперь я растерял друзей, вокруг — одни чужие.
Теперь стихи мои живут во всех чертогах царских,
В моих стихах цари живут, дела их боевые.
Заслушивался Хорасан твореньями поэта,
Их переписывал весь мир, чужие и родные.
Куда бы я ни приходил в жилища благородных,
Я всюду яства находил и кошели тугие.
Я не служил другим царям, я только от Саманов
Обрел величье, и добро, и радости мирские.
Мне сорок тысяч подарил властитель Хорасана,
Пять тысяч дал эмир Макан — даренья недурные!
У слуг царя по мелочам набрал я восемь тысяч,
Счастливый, песни я слагал правдивые, прямые.
Лишь должное воздал эмир мне щедростью подобной,
А слуги, следуя царю, раскрыли кладовые.
Но изменились времена, и сам я изменился,
Дай посох: с посохом, с сумой должны брести седые.
НА СМЕРТЬ АБУЛXАСАНА МУРОДИ
Скончался Муроди. Ты скажешь ли о нем:
«Он умер», — если он сиял для нас умом?
Но мать-земля взяла угаснувшую плоть,
А душу — небосвод: он был ему отцом.
Что было ангельским, то к ангелам ушло:
Началом стало то, что ты назвал концом.
Пылинкой не был он, что ветром поднята,
Водою не был он, что застывает льдом,
Он не был зернышком, придавленным землей,
Он не был сломанным, беззубым гребешком,
Он золотом сверкал во прахе, для него
И тот и этот свет ячменным был зерном.
Свой прах он сбросал в прах, а душу, светлый ум
Унес на небеса, заботясь о благом.
С красою внутренней, сокрытой до поры,
Придав ей новый блеск, предстал он пред творцом.
Он с гущей смешанным отборным соком был,
От гущи отделясь, он чистым стал вином.
О друг, пойми меня: коль реец или курд,
Сын Мерва, Рума сын пойдут своим путем,
То не смешаются дерюга и атлас,
У каждого из них есть свой особый дом.
Молчи: уже тебя в тетради бытия
Посол всевышнего перечеркнул пером…
НА СМЕРТЬ ШАХИДА БАЛХИ
Он умер. Караван Шахида покинул этот бренный свет.
Смотри, и наши караваны увлек он за собою вслед.
Глаза, не размышляя, скажут: «Одним на свете меньше стало»,
Но разум горестно воскликнет: «Увы, сколь многих больше нет!»
Так береги от смерти силу духа, когда грозящая предстанет,
Чтобы сковать твои движенья, остановить теченье лет.
Не раздавай рукой небрежной ни то, что получил в подарок,
Ни то, что приобрел заботой и прилежаньем долгих лет.
Обуреваемый корыстью, чужим становится и родич,
Когда ему ты платишь мало, поберегись нежданных бед.
«Пугливый стриж и буйный сокол сравнятся ль яростью и силой,
Сравнится ль волк со львом могучим», — спроси и дай себе ответ.
* * *
В благоухании, в цветах пришла желанная весна,
Сто тысяч радостей живых вселенной принесла она.
В такое время старику не трудно юношею стать,—
И снова молод старый мир, куда девалась седина!
Построил войско небосвод, где вождь — весенний ветерок,
Где тучи — всадникам равны, и мнится: началась война.
Здесь молний греческий огонь, здесь воин — барабанщик-гром.
Скажи, какая рать была, как это полчище, сильна?
Взгляни, как туча слезы льет. Так плачет в горе человек.
Гром на влюбленного похож, чья скорбная душа больна.
Порою солнце из-за туч покажет нам свое лицо,
Иль то над крепостной стеной нам голова бойца видна?
Земля на долгий, долгий срок была повергнута в печаль,
Лекарство ей принес жасмин: она теперь исцелена.
Все лился, лился, лился дождь, как мускус он благоухал,
А по ночам на тростнике лежала снега пелена.
Освобожденный от снегов, окрепший мир опять расцвел,
И снова в высохших ручьях шумит вода, всегда вольна.
Как ослепительный клинок, сверкнула молния меж туч,
И прокатился первый гром, и громом степь потрясена.
Тюльпаны, весело цветя, смеются в травах луговых,
Они похожи на невест, чьи пальцы выкрасила хна.
На ветке ивы соловей поет о счастье, о любви,
На тополе поет скворец от ранней зорьки дотемна.
Воркует голубь древний сказ на кипарисе молодом,
О розе песня соловья так упоительно звучна.
Живите весело теперь и пейте славное вино,
Пришла любовников пора, им радость встречи суждена.
Скворец на пашне, а в саду влюбленный стонет соловей,
Под звуки лютни пей вино, — налей же, кравчий, нам вина!
Седой мудрец приятней нам юнца-вельможи, что жесток,
Хотя на вид и хороша поры весенней новизна.
Твой взлет с паденьем сопряжен, в твоем паденье виден взлет,
Смотри, смутился род людской, пришла в смятение страна.
Среди красивых, молодых блаженно дни ты проводил,
Обрел желанное в весне — на радость нам она дана.
* * *
Я думаю о том, кто славой обладает.
Из-за его души моя душа страдает.
Всегда я трепещу за жизнь владыки, ибо
Подобных сыновей не часто мать рождает.
Как этот юноша, никто из властелинов
С такой отвагою врагов не побеждает.
Никто не ведает числа его достоинств,
С какой он щедростью дарит и награждает!
Осыпан золотом похвал и пожеланий,
Он не от слов пустых величья ожидает.
Из сердца своего изгнав любовь к богатству,
Он благодарности побеги насаждает.
Дела его любой толкует, как Авесту,
Как книгу Зенд, — добро и щедрость обсуждает.
Поэтов нынешних бессильны славословья —
Превыше всех речей хвалебных он блистает.
Из блага сотворен, все, что он сеет, — благо,
Признательность, как сад, кругом произрастает.
Вся жизнь его как свод законов благородства,
Страницы чистоты, что сам Хосров листает.
Вернее, жизнь его есть книга назиданий,
И внемлет жизнь ему, когда он назидает.
А кто не слушает владыки поученья,
Тот, к пиршествам влеком, в тенета попадает.
В чем сущность горести? Кто на земле несчастен?
Кто, зависти к царю исполнен, увядает.
Ты скажешь тем, кого гнетут его успехи:
«Смиритесь пред судьбой, — так мудрость утверждает.
О ангел, счастлив будь, коль друг его ликует,
О, смейся, небосвод, коль враг его рыдает!
Я тем же кончу стих, чем начал: постоянно
Я думаю о том, кто славой обладает.
СТИXИ О ВИНЕ
Нам надо мать вина сперва предать мученью,
Затем само дитя подвергнуть заключенью.
Отнять нельзя дитя, покуда мать жива,—
Так раздави ее и растопчи сперва!
Ребенка малого не позволяют люди
До времени отнять от материнской груди:
С весны до осени он должен целиком
Семь полных месяцев кормиться молоком.
Затем, кто чтит закон, творцу хвалы приносит,
Мать в жертву принесет, в тюрьму ребенка бросит.
Дитя, в тюрьму попав, тоскуя от невзгод,
Семь дней в беспамятстве, в смятенье проведет.
Затем оно придет в сознанье постепенно,
Забродит, забурлит — и заиграет пена.
То бурно прянет вверх, рассудку вопреки.
То буйно прыгнет вниз, исполнено тоски.
Я знаю, золото на пламени ты плавишь,
Но плакать, как вино, его ты не заставишь.
С верблюдом бешеным сравню дитя вина,
Из пены вздыбленной родится сатана.
Все дочиста собрать не должен страж лениться:
Сверканием вина озарена темница.
Вот успокоилось, как укрощенный зверь.
Приходит страж вина и запирает дверь.
Очистилось вино и сразу засверкало
Багрянцем яхонта и пурпуром коралла.
Йеменской яшмы в нем блистает красота.
В нем бадахшанского рубина краснота!
Понюхаешь вино — почуешь, как влюбленный,
И амбру с розами, и мускус благовонный.
Теперь закрой сосуд, не трогай ты вина,
Покуда не придет созревшая весна.
Тогда раскупоришь кувшин ты в час полночный,
И пред тобой родник блеснет зарей восточной.
Воскликнешь: «Это лал, ярка его краса,
Его в своей руке держал святой Муса!
Его отведав, трус в себе найдет отвагу,
И в щедрого оно преображает скрягу…
А если у тебя — бесцветный, бледный лик,
Он станет от вина пунцовым, как цветник.
Кто чашу малую испробует вначале,
Тот навсегда себя избавит от печали,
Прогонит за Танжер давнишней скорби гнет
И радость пылкую из Рея призовет».
Выдерживай вино! Пускай промчатся годы
И позабудутся тревоги и невзгоды.
Тогда средь ярких роз и лилий поутру
Ты собери гостей на царственном пиру.
Ты сделай свой приют блаженным садом рая,
Блестящей роскошью соседей поражая.
Ты свой приют укрась издельем мастеров,
И золотом одежд, и яркостью ковров,
Умельцев пригласи, певцов со всей округи,
Пусть флейта зазвенит возлюбленной подруги.
В ряду вельмож вазир воссядет — Балами,
А там — дихкан Салих с почтенными людьми.
На троне впереди, блистая несказанно,
Воссядет царь царей, властитель Хорасана.
Красавцев тысяча предстанут пред царем:
Сверкающей луной любого назовем!
Венками пестрыми те юноши увиты,
Как красное вино, пылают их ланиты.
Здесь кравчий — красоты волшебной образец,
Тюрчанка — мать его, хакан — его отец.
Поднялся — радостный, веселый — царь высокий.
Приблизился к нему красавец черноокий,
Чей стан что кипарис, чьи щеки ярче роз,
И чашу с пламенным напитком преподнес,
Чтоб насладился царь вином благоуханным
Во здравие того, кто правит Саджастаном.
Его сановники с ним выпьют заодно,
Они произнесут, когда возьмут вино:
«Абу Джафар Ахмад ибн Мухаммад!
Со славой Живи, благословен иранскою державой!
Ты — справедливый царь, ты — солнце наших лет,
Ты правосудие даруешь нам и свет!»
Тому царю никто не равен, скажем прямо,
Из тех, кто есть и кто родится от Адама!
Он — тень всевышнего, он господом избран,
Ему покорным быть нам повелел Коран.
Мы — воздух и вода, огонь и прах дрожащий,
Он — отпрыск солнечный, к Сасану восходящий.
Он царство мрачное к величию привел,
И потрясенный мир, как райский сад, расцвел.
Коль ты красноречив, прославь его стихами,
А если ты писец, хвали его словами,
А если ты мудрец, — чтоб знанья обрести,
Ты должен по его последовать пути.
Ты скажешь знатокам, поведаешь ученым:
«Для греков он Сократ, он стал вторым Платоном!»
А если шариат ты изучать готов.
То говори о нем: «Он главный богослов!»
Уста его — исток и мудрости и знаний,
И, выслушав его, ты вспомнишь о Лукмане.
Он разум знатоков умножит во сто крат,
Разумных знанием обогатить он рад.
Иди к нему, взглянуть на ангела желая:
Он — вестник радости, ниспосланный из рая.
На стройный стан взгляни, на лик его в цвету,
И сказанного мной увидишь правоту.
Пленяет он людей умом, и добротою,
И благородною душевной чистотою.
Когда б дошли его речения к тебе,
То стал бы и Кейван светить твоей судьбе.
Узрев его среди чертога золотого,
Ты скажешь: «Сулейман великий ожил снова!»
Такому всаднику, на скакуне таком
Мог позавидовать и славный Сам в былом.
А если в день борьбы, когда шумит сраженье,
Увидишь ты его в военном снаряженье,
Тебе покажется ничтожным ярый слон,
Хотя б он был свиреп и боем возбужден.
Когда б Исфандиар предстал пред царским взором.
Бежал бы от царя Исфандиар с позором.
Возносится горой он мирною порой,
Но то гора Сийам, ее удел — покой.
Дракона ввергнет в страх своим копьем разящим:
Тот будет слоимо воск перед огнем горящим.
Вступи с ним в битву Марс, чья гибельна вражда,
Погибель обретет небесная звезда.
Когда себе налить вина велит могучий,
Ты скажешь: «Вешний дождь из вешней льется тучи».
Из тучи только дождь пойдет на краткий срок,
А от него — шелков и золота поток.
С огромной щедростью лилась потока влага,
Но с большей щедростью дарит он людям благо.
Великодушием он славен, и в стране
Хвалы ему в цене, а злато не в цене.
К великому царю поэт приходит нищий —
Уходит с золотом, с большим запасом пищи.
В диване должности он роздал мудрецам,
И покровительство он оказал певцам.
Он справедлив для всех, он полон благодати,
И равных нет ему средь мусульман и знати.
Насилья ты с его не видишь стороны.
Перед его судом все жители равны.
Простерлись по земле его благодеянья,
Такого нет, кого лишил бы он даянья.
Покой при нем найдет уставший от забот,
Измученной душе лекарство он дает.
В пустынях и степях средь вечного вращенья
Он сам себя связал веревкой всепрощенья.
Прощает он грехи, виновных пожалев,
И милосердием он подавляет гнев.
Нимрузом правит он, и власть его безмерна,
А счастье — леопард, а враг дрожит, как серна.
Подобен Амру он, чья боевая рать,
Чье счастье бранное как бы живут опять.
Хотя и велика, светла Рустама слава,
Благодаря ему та слава величава.
О Рудаки! Восславь живущих вновь и вновь,
Восславь его: тебе дарует он любовь.
И если ты блеснуть умением захочешь,
И если ты свой ум напильником наточишь,
И если ангелов, и птиц могучих вдруг,
И духов превратишь в своих покорных слуг,—
То скажешь: «Я открыл достоинств лишь начало,
Я много слов сказал, по молвил слишком мало…»
Вот все, что я в душе взлелеял глубоко.
Чисты мои слова, их всем понять легко.
Будь златоустом я и самым звонким в мире,
Лишь правду говорить я мог бы об эмире.
Прославлю я того, кем славен род людской
Отрада от него, величье и покой.
Своим смущением гордиться не устану,
Хоть в красноречии не уступлю Сахбану.
В умелых похвалах он шаха превознес
И, верно выбрав день, их шаху преподнес.
Есть похвале предел — скажу о всяком смело,
Начну хвалить его — хваленьям нет предела!
Не диво, что теперь перед царем держав
Смутится Рудаки, рассудок потеряв.
О, мне теперь нужна Абу Омара смелость,
С Аднаном сладостным сравниться мне б хотелось.
Ужель воспеть царя посмел бы я, старик,
Царя, для чьих утех всевышний мир воздвиг!
Когда б я не был слаб и не страдал жестоко,
Когда бы не приказ властителя Востока,
Я сам бы поскакал к эмиру, как гонец,
И, песню в зубы взяв, примчался б наконец!
Скачи, гонец, неси эмиру извиненья,
И он, ценитель слов, оценит, без сомненья,
Смущенье старика, что немощен и слаб:
Увы, не смог к царю приехать в гости раб!
Хочу я, чтоб царя отрада умножалась,
А счастье недругов всечасно уменьшалось.
Чтоб головой своей вознесся он к луне,
А недруги в земной сокрылись глубине.
Чтоб красотой своей обрел он в солнце брата,
Сахлана стал прочней, превыше Арарата.