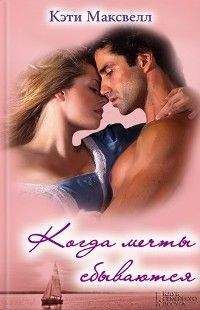Клаудия Отт - 101 ночь. Утерянные сказки Шахразады
«Сто ночей, автор шейх Фахдас (или Фахрас), философ, – это сто историй» [7]
Дословный текст этой записи настолько скудный и в то же время – из-за путаницы с количеством ночей – частично вводящий в заблуждение, что едва ли мы можем исходить из того, что ее автор действительно был знаком со «Ста и одной ночью», по крайней мере не в настоящей редакции.
Поэтому давайте исследовать указания, которые дает нам само произведение. Последняя по времени историческая личность, упоминаемая в этих историях, – халиф из династии Аббасидов аль-Мутасим (правил до 842 г.). Указания на события XI в., например на крестовые походы, отсутствуют. В данном отношении это имеет особое значение, ведь во многих других арабских повествовательных произведениях именно крестовые походы оставили литературный след. Таким образом, по этим признакам период возникновения «Ста и одной ночи» может относиться приблизительно к концу IX или началу X в., то есть, грубо говоря, около 900 г. Такой датировке соответствует также историографическое сообщение о том, что в течение X в. в Аль-Андалусе получили распространение такие персидские обычаи, как, например, ежегодный праздник михраган, о котором говорится в прологе к «Ста и одной ночи»[8].
С другой стороны, «Сто и одна ночь» через свою рамочную историю очень тесно связана с древнеиндийскими литературными образцами примерно в таком же объеме, а в некотором отношении даже еще более тесно, чем «Тысяча и одна ночь». Китайская «Трипитака», собрание буддийских канонических сочинений, предлагает под номером сто семь историю следующего содержания: один царь смотрит на себя в зеркало и задает собравшимся министрам вопрос: знают ли они более красивого человека, чем он. Те сообщают ему, что слышали о непревзойденной красоте одного юноши в его царстве. Царь велит послать за юношей под тем предлогом, что хочет пригласить его из-за его мудрости. Вскоре после своего отъезда юноша снова возвращается домой, чтобы взять выписки из своих книг. Он находит свою жену в объятиях другого мужчины. После этого у юноши начинается жизненный кризис, его внешность изменяется и красота исчезает. Прибыв к царю, который ничего не знает об этом происшествии, юноша по этой причине оказывается сначала в изоляции, чтобы отдохнуть от утомительного путешествия. В этот период он случайно становится свидетелем того, как супруга царя изменяет ему с конюхом. Утешенный таким образом судьбой, юноша тут же приходит в себя, и его прежняя красота восстанавливается. Когда после этого царь обращается к нему, юноша рассказывает ему о том, что пережил и что наблюдал. Царь возмущается вместе с ним распущенностью женского пола. И они совместно решают уйти в горы и отказаться от мира[9].
Эта история взята из собрания притч «Цзю дза бийю цзинг», части канона, который, как считается, был переведен после 251 г. с санскрита на китайский язык согдийским высокопоставленным сановником по имени Канг Сенгуи (умер в 280 г.).
Не вызывает сомнений, что здесь мы имеем перед собой литературный образец для пролога «Ста и одной ночи». По крайней мере, для рамочной истории и для идеи повествования «Ста и одной ночи» возникает правомерный вопрос о значительно более раннем ее возникновении, чем IX или X в. Эти элементы могли быть переведены в доисламский период, то есть приблизительно около 500 г. н. э., с древнеиндийского языка либо с пали, более народного среднеиндийского литературного языка, на среднеперсидский, а со среднеперсидского около 800 г. – на арабский. Соответственно этому происхождение и передачу через поколения «Ста и одной ночи» нужно было бы рассматривать параллельно с «Тысячей и одной ночью». По этой теории известное сегодня из рукописей представление о «Ста и одной ночи» было бы результатом дальнейших шагов по передаче и перемещении повествовательной конструкции с Востока на Запад.
Фиктивный рассказчикКак и «Тысяча и одна ночь», «Сто и одна ночь» передавалась из поколения в поколение анонимно. Таким образом, у произведения отсутствовала личность автора, которая могла бы своим добрым именем гарантировать качество содержания, как это было принято в отношении сборников арабской литературы в классическую эпоху. Это указывает, с одной стороны, на комплексную предысторию этого произведения, а с другой – освобождает место для фигуры фиктивного рассказчика. Словами «Повествователь этой истории рассказывает…» тот представляется сразу в начале текста и на всем его продолжении.
Фиктивные рассказчики (по-арабски «рави») известны из мира арабской эпики, но появляются также и в тех версиях «Тысячи и одной ночи», которые сохранили в себе особенно много элементов устной словесности. В виде некоего сверхавторитета этот «рави» в анонимно передаваемых текстах выступает в роли автора, действует одновременно и как сказитель и в конечном счете оформляет так называемый виртуальный сеанс повествования[10]. Этот последний состоит из формул, заимствованных из подлинных или сымитированных сеансов повествования. Они переводят письменный текст в контекст ситуации устного исполнения. Читатель должен почувствовать себя слушателем. Он должен видеть перед собой рассказчика где-нибудь на углу улицы, в кофейне или в апельсиновой роще, то есть именно такого, какой ему знаком из его культурного окружения[11].
Точно так же присутствует рассказчик и в нашей рукописи «Ста и одной ночи». Снова и снова он обращается с короткими вставками к сознанию читателей, а иногда даже прямо призывает свою «виртуальную публику» ответить на стихотворную вставку формулами благословения:
«Его облик сиял, как жемчуг, как говорит поэт – когда вы произносите благословение в честь господина нашего Мухаммеда, да благословит его Аллах и дарует ему мир! – так говорит поэт».
Однако в «Ста и одной ночи» этот анонимный эпический рассказчик вскоре отходит на задний план. Начиная со второй ночи свое место занимает называемый по имени автор и рассказчик – Фахараис, философ. В других версиях текста этот рассказчик-философ присутствует с самого начала и рассказывает некоему неточно обозначенному царю по его настоятельному требованию следующие истории:
«Так говорит шейх Фихрас, философ:
Один царь услышал об этой моей книге и послал за мной, чтобы вызвать меня к себе. Я вошел в его дворец и оставался там его гостем целый месяц. Когда этот месяц прошел, он приказал мне предстать перед ним, и я явился к нему.
– Я хочу тебя о чем-то спросить, – сказал он.
– Спрашивай, о чем бы ни шла речь, – ответил я.
И тогда он сказал:
– Расскажи мне о «Ста и одной ночи» и принеси книгу, в которую я мог бы записать всю эту историю от начала до конца.
– Согласен, – ответил я»[12].
Роль рассказчика-философа напоминает об индийской литературе и тем самым указывает скорее на сферу письменности. Одним из наиболее известных и близкородственных литературных примеров является брахман Бидпай, из уст которого возвещается древнеиндийский трактат мудрости «Панкатантра»: мудрец Бидпай рассказывает индийскому царю Дабхалиму морально поучительные басни, чтобы вывести его на правильный путь. Как известно, эта индийская книга басен прошла такой же путь передачи из поколения в поколение, как и «Тысяча и одна ночь». Сначала она была переложена на среднеперсидский, а с него – на арабский языки. В качестве переводчика выступил знаменитый арабский автор, писавший на родном для него персидском языке, ибн аль-Мукаффа (около 720–756), который по именам двух своих протагонистов, шакалов Калила и Димна, дал этому произведению новое название – «Калила ва-Димна» и который, согласно одному из источников IX в., упоминается даже как переводчик «Тысячи и одной ночи»[13]. Из арабского и сирийского языков «Панкатантра» начала свое триумфальное шествие по мировой литературе. Она была переведена на древнееврейский и латинский языки, а с них – практически на все языки мира и оказала долговременное влияние также на европейскую басенную традицию[14].
Но вернемся к «Ста и одной ночи». Здесь рассказ ведется от лица философа с индийским прообразом и звучащим по-иностранному именем. Помимо указанных индийских ссылок, имеется также сходство с созвучным именем древнегреческого философа, который цитируется одним известным раннеисламским историческим источником[15]. Коннотируемый таким образом в индийско-античном стиле, Фахараис является, как нам придется, видимо, признать, чисто литературным образом, созданным для одной цели – выступить автором именно этих рассказов. То, что он именуется титулом «философ», представляется, по всей вероятности, своего рода компромиссным решением между буддийской и поэтому с точки зрения ислама языческой религией древнеиндийских литературных прототипов и исламским окружением, на которое должны были воздействовать истории из «Ста и одной ночи».
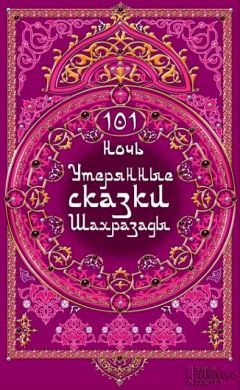
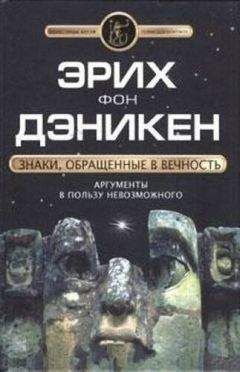
![Эрих фон Дэникен - Боги майя [День, когда явились боги]](/uploads/posts/books/186572/186572.jpg)