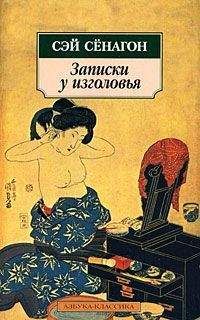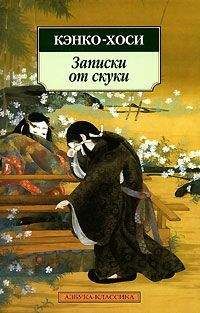Сэй Сёнагон - Записки у изголовья (Полный вариант)
— В этой шапке? — воскликнул он. — Как это возможно!
— Пошлите за другой, парадной.
Но тут дождь полил потоками, и наши люди, головы которых были неприкрыты, вкатили экипаж в Земляные ворота так быстро, как могли.
Один из телохранителей принес своему господину зонт и поднял над его головой. Господин То-дзидзю отправился обратно. На этот раз он шел медленно, оглядываясь на нас через плечо, и на лице его было такое унылое выражение! В руке он нес цветущую ветку унохана.
Когда мы явились к императрице, она спросила нас, как прошла наша поездка.
Дамы, которых мы не взяли с собой, сначала хмурились с обиженным видом, но когда мы рассказали, как господин То-дзидзю бежал за нами по Первому проспекту, они невольно присоединились к общему смеху.
— Ну что же, — спросила государыня, — где они, ваши стихи?
Я рассказала все, как было.
— Очень жаль, — упрекнула нас государыня. — Разумеется, при дворе уже слышали о вашей поездке. Как вы объясните, что не сумели написать ни одного стихотворения? Надо было сочинить там же, на месте, пока вы слушали пение кукушки. Вы слишком много думали о совершенстве формы, и ваше вдохновение улетело. Но напишите стихи хоть сейчас. Есть о чем долго говорить!
Государыня была права. Мы постыдно оплошали!
Только мы начали совещаться между собой по этому случаю, как вдруг мне принесли послание от господина То-дзидзю, привязанное к той самой ветке унохана. На бумаге белой, как цветок, была написана танка. Но я не могу ее вспомнить.
Посланный ждал ответа, и я попросила принести мне тушечницу из моего покоя, но императрица повелела мне взять ее собственную тушечницу.
— Скорее, — сказала она, — напиши что-нибудь вот на этом, — и положила на крышку тушечницы листок бумаги.
— Госпожа сайсё, напишите вы, — попросила я.
— Нет уж, лучше вы сами, — отказалась она. В это время вдруг набежала темнота, дождь полил снова, раздались сильные удары грома. Мы до того испугались, что думали только об одном, как бы поскорее опустить решетчатые рамы. О стихах никто и не вспомнил.
Гроза начала стихать только к самому вечеру. Лишь тогда мы взялись писать запоздалый ответ, но в это самое время множество высших сановников и придворных явилось осведомиться, как императрица чувствует себя после грозы, и нам пришлось отправиться к западному входу, чтобы беседовать с ними.
Наконец можно было бы заняться сочинением «ответной песни». Но все прочие придворные дамы удалились.
— Пусть та, кому посланы стихи, сама на них и отвечает, — говорили они.
Решительно, поэзию сегодня преследовала злая судьба.
— Придется помалкивать о нашей поездке, вот и все, — заметила я со смехом.
— Неужели и теперь ни одна из вас, слушавших пение кукушки, не может сочинить мало-мальски сносное стихотворение? Вы просто заупрямились, сказала государыня.
Она казалась рассерженной, но и в такую минуту была прелестна.
— Поздно сейчас, вдохновение остыло, — ответила я.
— Зачем же вы дали ему остыть? — возразила государыня.
На этом разговор о стихах закончился.
Два дня спустя мы стали вспоминать нашу поездку.
— А вкусные были побеги папоротника! Помните? Господин Акинобу еще говорил, что собирал их собственными руками, — сказала госпожа сайсё.
Государыня услышала нас.
— Так вот что осталось у вас в памяти! — воскликнула она со смехом.
Императрица взяла листок бумаги, какой попался под руку, и набросала последнюю строфу танки:
Папоротник молодой
Вот что в памяти живет.
— А теперь сочини первую строфу, — повелела императрица.
Воодушевленная ее стихами, я написала:
Голосу кукушки
Для чего внимала ты
В странствии напрасном?
— Неужели, Сёнагон, — весело заметила императрица, — тебе не совестно поминать кукушку хоть единым словом? Ведь у вас, кажется, другие вкусы.
— Как, государыня? — воскликнула я в сильном смущении. — Отныне я никогда больше не буду писать стихов. Если каждый раз, когда нужно сочинять ответные стихи, вы будете поручать это мне, то, право, не знаю, смогу ли я оставаться на службе у вас. Разумеется, сосчитать слоги в песне — дело нехитрое. Я сумею, коли на то пошло, весною сложить стихи о зиме, а осенью о цветущей сливе. В семье моей было много прославленных поэтов, и сама я слагаю стихи, пожалуй, несколько лучше, чем другие. Люди говорят: «Сегодня Сэй-Сёнагон сочинила прекрасные стихи. Но чему здесь удивляться, ведь она дочь поэта». Беда в том, что настоящего таланта у меня нет. И если б я, слишком возомнив о себе, старалась быть первой в поэтических состязаниях, то лишь покрыла бы позором память моих предков.
Я с полной искренностью открыла свою душу, но государыня только улыбнулась:
— Хорошо, будь по-твоему. Отныне я не стану больше тебя приневоливать.
— От сердца отлегло. Теперь я могу оставить поэзию, — сказала я в ответ.
Как раз в это время министр двора, его светлость Корэтика, не жалея трудов, готовил увеселения для ночи Обезьяны[201].
Когда наступила эта ночь, он предложил темы для поэтического турнира. Придворные дамы тоже должны были принять участие. Все они, очень взволнованные, горячо взялись за дело.
Я же оставалась с императрицей, беседуя с ней о разных посторонних вещах. Господин министр двора приметил меня.
— Почему вы держитесь в стороне? — спросил он. — Почему не сочиняете стихов? Выберите тему.
— Государыня позволила мне оставить поэзию, — ответила я. — Больше мне незачем беспокоиться по этому поводу.
— Странно! — удивился господин министр. — Да полно, правда ли это? Зачем вы разрешили ей? — спросил он императрицу. — Ну хорошо, поступайте, как хотите, в других случаях, но нынче ночью непременно сочините стихи.
Но я осталась глуха к его настояниям.
Когда начали обсуждать стихи участниц поэтического турнира, государыня бросила мне записку. Вот что я прочла в ней:
Дочь Мотосукэ̀,
Отчего осталась ты
В стороне от всех?
Неужели лишь к тебе
Вдохновенье не придет?
Стихотворение показалось мне превосходным, и я засмеялась от радости.
— Что такое? В чем дело? — полюбопытствовал господин министр.
Я сказала ему в ответ:
О, если бы меня
Наследницей великого поэта
Не прозвала молва,
Тогда бы я, наверно, первой
Стихи сложила в эту ночь.
И я добавила, обращаясь к императрице:
— Когда бы я не стыдилась моих предков, то написала бы для вас тысячу стихотворений, не дожидаясь просьбы.
100. Была ясная лунная ночь…
Была ясная лунная ночь в десятых числах восьмой луны. Императрица, имевшая тогда резиденцию в здании своей канцелярии, сидела неподалеку от веранды. Укон-но найси услаждала ее игрой на лютне.
Дамы смеялись и разговаривали. Но я, прислонившись к одному из столбов веранды, оставалась безмолвной.
— Почему ты молчишь? — спросила государыня. — Скажи хоть слово. Мне становится грустно…
— Я лишь созерцаю сокровенное сердце осенней луны, — ответила я.
— Да, именно это ты и должна была сказать, — молвила государыня.
101. Однажды у императрицы собралось большое общество приближенных
Однажды у императрицы собралось большое общество приближенных. Среди них можно было увидеть знатных дам — родственниц государыни, придворных сановников и молодых вельмож. Сидя в стороне, я вела разговор с фрейлинами.
Внезапно императрица бросила мне записку.
Я развернула ее и прочла:
«Должна ли я любить тебя или нет, если не могу уделить тебе первое место в моем сердце?»
Несомненно, она вспомнила недавний разговор, когда я заметила в ее присутствии:
— Если я не смогу царить в сердце человека, то предпочту, чтоб он совсем не любил меня. Пусть лучше ненавидит или даже преследует. Скорее умру, чем соглашусь быть второй или третьей. Хочу быть только первой!
— Вот она — «Единственная колесница Закона»![202] — воскликнул кто-то, и все рассмеялись.
Когда я прочла записку, государыня дала мне кисть и листок бумаги.
Я написала на нем: «Среди лотосовых сидений в райском чертоге[203], что возвышаются друг над другом вплоть до девятого неба, мне будет желанно и самое низшее».
— Ну-ну, — молвила государыня, — ты совсем пала духом. Это плохо! Лучше будь неуступчивой, такой, как раньше была.
— Это смотря к кому.
— Вот это уж действительно плохо! — упрекнула меня императрица. — Ты должна стремиться быть первой в сердце «Первого человека в стране».
Чудесные слова!
102. Его светлость тюнагон Такаиэ̀ посетил однажды императрицу…
Его светлость тюнагон Такаиэ посетил однажды императрицу — свою сестру — и сказал, что собирается преподнести ей веер: