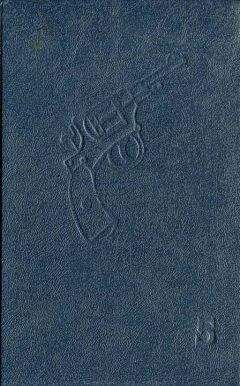Нидзё - Непрошеная повесть
Рисунок этот отличался от моей манеры расписывать веера, и государь принялся настойчиво расспрашивать: «Какой это мужчина подарил тебе на память сей веер?» Мне вовсе не хотелось, чтобы он в чем-то меня заподозрил, и притом — понапрасну, и я рассказала все как было. И тут, восхищенный красотой рисунка, он вдруг загорелся необъяснимой страстью к этой юной художнице, которую и в глаза-то не видел, и с тех пор в течение добрых трех лет то и дело приступал ко мне с требованием непременно свести его с этой девушкой. Не знаю, как ему удалось ее разыскать, но в этом году, в десятый день десятой луны, под вечер, она должна была наконец прибыть во дворец. Весьма довольный, государь облачался в нарядное одеяние, когда тюдзё Сукэюки доложил:
— Особа, о которой вы изволили распорядиться, пожаловала, согласно вашему приказанию.
— Хорошо, пусть подождет, не выходя из кареты, возле беседки над прудом, у южного фасада дворца, со стороны проезда Кёгоку! — отвечал государь.
Когда пробил первый вечерний колокол, эту девицу, о которой он мечтал целых три года, пригласили войти. В тот вечер на мне было двойное нижнее одеяние — зеленое и оранжевое, лиловой нитью на нем были вышиты побеги плюща, поверх я надела прозрачное темно-красное одеяние и алую парадную накидку. Как обычно, государь приказал мне проводить девушку, и я пошла за ней к подъезду, где стояла карета. Когда она вышла из кареты, весь ее вид, начиная с громкого шуршания ее одежд, показался мне сверх ожидания вульгарным. «Ну и ну!…» — подумала я. Я провела ее, как всегда, в небольшую комнату рядом с жилыми покоями государя — сегодня это помещение было убрано и украшено особенно тщательно, воздух благоухал заботливо подобранными ароматическими курениями. Платье девушки было сплошь заткано рисунком, изображавшим огромные веера, поверх него — двойное косодэ на зеленоватом исподе и алые шаровары-хакама, причем все это топорщилось от крахмала и торчало сзади горбом, точь-в-точь как заплечный мешок для подаяний у монаха со святой горы Коя [60]… Видно было, что этот наряд для нее непривычен и она чувствует себя неловко' в таком убранстве. Лицо у нее было красивое, нежное, черты четкие, правильные, поглядеть — так красавица, но все-таки благородной девицей не назовешь… Высокая, в меру полная, светлокожая… Служи она во дворце, вполне могла бы быть главной дамой на церемонии августейшего посещения Государственного совета — если, конечно, причесать ее подобающим образом, — и нести за государем его меч.
— Она уже здесь! — сообщила я, и государь появился в кафтане, затканном хризантемами, и в широких хакама, распространяя на сто шагов вокруг благоухание ароматических курений, которыми был пропитан его наряд. Аромат этот, сильный до одурения, носился в воздухе, проникая даже ко мне, за ширму.
Государь обратился к девушке, и та, без малейшего смущения, бойко отвечала и болтала в ответ. Я знала, что такая развязность не в его вкусе, и мне невольно стало смешно. Меж тем уже наступила ночь, и они улеглись в постель. Как всегда, я обязана была находиться рядом с опочивальней. А дежурным по дворцу в эту ночь был не кто иной, как дайнагон Санэканэ Сайондзи…
Ночь еще только началась, когда в соседнем покое, судя по всему, все уже закончилось — просто удивительно, как недолго длилось это свидание! Государь очень скоро вышел из опочивальни и кликнул меня. Я явилась.
— Как все это скучно… Я крайне разочарован… — сказал он, и мне, хоть и вчуже, стало жаль эту девушку.
Еще не пробил полночный колокол, а ее уже выпроводили из дворцовых покоев. Государь, в скверном расположении духа, переоделся и, даже не прикоснувшись к ужину, лег в постель.
— Разотри здесь!… Теперь — здесь! — заставил он меня растирать ему плечи, спину. Полил сильный дождь, и я с жалостью подумала, каково-то будет девушке возвращаться?
— Скоро уже рассвет… А как быть с той, кого привез Сукэюки? — спросила я.
— В самом деле, я и забыл… — сказал государь. — Поди, посмотри!
Я встала, вышла — солнце уже взошло… Возле Углового павильона, у беседки над прудом я увидела насквозь промокший под дождем кузов кареты — как видно, она так и простояла под открытым небом всю ночь. «Какой ужас!» — подумала я и приказала: «Подкатите сюда карету!» На мой голос из-под навеса над воротами выскочили провожатые и подкатили карету к подъезду. Я увидела, что наряд женщины — зеленоватое двойное платье из глянцевитого шелка — насквозь промок, очевидно, крыша кареты пропускала дождь, и узоры нижней одежды, полиняв, проступили на лицевую сторону. Глаза бы не глядели, какой жалкий все это имело вид! Рукава тоже вымокли — как видно, она проплакала, всю ночь напролет, волосы — от дождя ли, от слез — слиплись, как после купания. Девушка не хотела выходить из кареты. «В таком виде я не смею показаться на люди!» — твердила она. Мне стало искренне жаль ее, и я сказала: «У меня есть одежда, переоденьтесь в сухое и ступайте вновь к государю! Этой ночью он был занят важными государственными делами, оттого все так нескладно и вышло…» — но она только плакала и, несмотря на все мои уговоры, просила, молитвенно сложив руки: «Позвольте мне уехать домой!» — так что жалость брала глядеть. Меж тем окончательно рассвело, наступил день, теперь все равно ничего невозможно было исправить, и в конце концов ей разрешили уехать.
Когда я рассказала обо всем государю, он согласился: «Да, нехорошо получилось!…» — и сразу же отправил ей вдогонку письмо. В ответ девушка прислала на лакированной крышке тушечницы что-то завернутое в тонкую синеватую бумагу; на крышке имелась надпись: «Паучок, заблудившийся в травах». В бумаге оказалась прядь волос и надпись «В смятении из-за тебя…». Затем следовало стихотворение:
Знаю, не пощадит,
ославит в бесчисленных толках
нашу встречу молва.
О, как тяжко идти, как горько
по троне ночных сновидений!
И больше пи слова… «Уж не постриглась ли она в монахини? — сказал государь. — Поистине, как все бренно на этом свете!…» После этого он часто справлялся, куда подевалась эта женщина, но она исчезла бесследно.
Спустя много лет я услыхала, что она стала монахиней и поселилась при храме Хаси, в краю Кавати; говорят, что женщины, вступая на праведный путь, дают там пятьсот обетов. Так случилось, что эта ночь привела ее на путь Будды. Я поняла тогда, что пережитое горе обернулось для нее, напротив, радостным, благим умудрением!
Меж тем, совсем неожиданно, я стала получать послания от настоятеля с такими страстными признаниями в любви, что они повергли меня в смятение. Письма приносил родственник мальчика-служки, состоявшего при настоятеле. Время от времени я отвечала на эти письма, но сам настоятель при дворе ни разу не появлялся, и я была скорее даже рада этому.
Сменился год, и по случаю наступления весны наш государь и прежний император Камэяма решили устроить состязание цветов. Все были заняты приготовлениями, бродили по горам и долам в поисках новых редкостных цветов, свободного времени не было ни минуты, и мои тайные встречи с дайнагоном Сайондзи, к сожалению, тоже не могли происходить так часто, как мне хотелось. Оставалось лишь писать ему письма с выражением моего огорчения и нетерпения. Время шло, я безотлучно несла свою дворцовую службу, и вот уже вскоре настала осень.
Помнится — это было в конце девятой луны, — дайна-гон Дзэнсёдзи, мой дядя, прислал мне пространное письмо. «Нужно поговорить, немедленно приезжай, — писал он. — Все домашние тоже непременно хотят тебя видеть. Сейчас я нахожусь в храме Идзумо, постарайся как-нибудь выкроить время и обязательно приезжай!» Когда же я приехала, оказалось, что это письмо — всего лишь уловка для тайной встречи с настоятелем. Очевидно, настоятель не сомневался, что я люблю его так же сильно, как он меня, и так же мечтаю о встрече с ним. С дайнагоном Дзэнсёдзи он дружил с детских лет, а я доводилась дайнагону близкой родней, и он придумал таким путем устроить наше свидание… Мы встретились, но такая неистовая, ненасытная страсть внушала мне отвращение и даже какой-то страх. В ответ на все его речи я не вымолвила ни слова, в постели ни на мгновенье глаз не сомкнула, точь-в-точь как сказано о делах сердечных в старинных шутливых стихах:
Приступает ко мне,
в головах и ногах угнездившись,
душу травит любовь.
Так, без сна, и маюсь на ложе -
не найти от любви спасенья…
Мне вспомнились эти стихи, и меня против воли разбирал смех. Настоятель всю ночь напролет со слезами на глазах клялся мне в любви, а мне казалось, будто все это происходит не со мной, а с какой-то совсем другой женщиной, и уж конечно, он не мог знать, что про себя я думала в это время — ладно, эту ночь уж как-нибудь потерплю, но второй раз меня сюда не заманишь!… Меж тем пение птиц напомнило, что пора расставаться. Настоятель исчерпал, кажется, все слова, чтобы выразить боль, которую причиняет ему разлука-, а я, напротив, радовалась в душе — с моей стороны, это было, конечно, очень нехорошо…