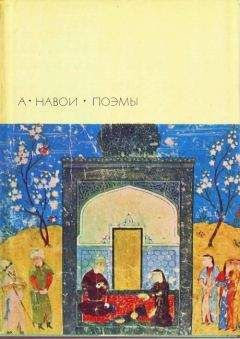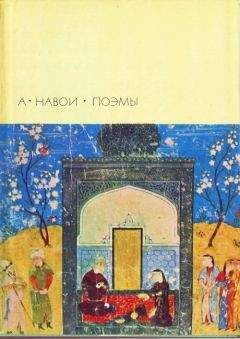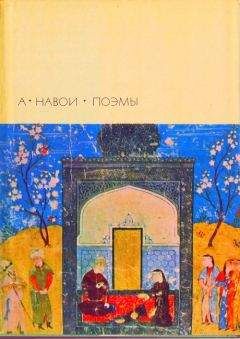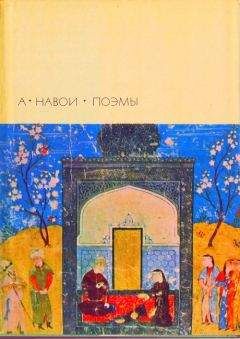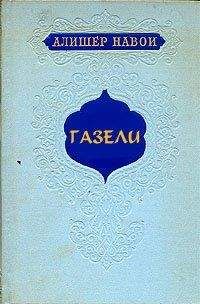Алишер Навои - ФАРХАД И ШИРИН
ГЛАВА XXXI
ВСТРЕЧА ФАРХАДА С ШИРИН
Выезд двора на места работ.
Описание красоты Ширин.
Награждение чудесного мастера.
Фархад узнает в Ширин красавицу, виденную в зеркале Искандара.
Потеря сознания.
Фархада переносят во дворец Михин-Бану
Тот ювелир, что жемчуг слов низал,
Так ожерелье повести связал.
А я, начав главу, упомяну
О том, что люди бросились к Бану.
Фархад их изумил своим трудом, —
Они ей так поведали о том:
«Пришел к нам некий юноша, — таких
Не видели созданий мы людских:
На вид он изможден, и слаб, и тощ,
А мощь его — нечеловечья мощь.
А сердцем прост и так незлобен он,
И ликом ангелоподобен он.
Не справиться так с глиною сырой,
Как он с крепчайшей каменной горой.
За нас один ломать он стал гранит, —
Арык на полдлины уже пробит!..»
Известием удивлена таким,
Могла ль Михин-Бану поверить им?
И лишь когда опять к ней и опять
Все те же вести стали поступать,
Не верить больше не было причин.
Тогда Бану отправилась к Ширин
И рассказала все, что стало ей
Известно от надежнейших людей:
О том, каков на вид пришелец тот,
Обычаем каков умелец тот
И как один он за день сделал то,
Чего в три года не успел никто.
Воскликнула Ширин: «Кто ж он такой,
Наш гость, творящий чудеса киркой?
Он добровольно нам в беде помог, —
Действительно, его послал к нам бог!
Он птица счастья, что сама влететь
Решилась в нашу горестную сеть.
Сокровища растрачивала я,
Напрасный труд оплачивала я,
И говорила уж себе самой:
«От той затеи руки ты умой, —
Арык не будет сделан никогда,
И во дворец мой не пойдет вода!..»
А этот чужеземец молодой,
Я верю, осчастливит нас водой.
Чем эту птицу счастья привязать?
Ей нужно уваженье оказать!»
Она приказ дала седлать коней, —
Михин-Бану сопутствовала ей.
За ними свита из четырехсот
Жасминогрудых девушек идет.
У сладкоустой пери — строгий конь,
Весь розовый и ветроногий конь.
Резвейшим в мире был ее скакун,
А прозван был в народе он Гульгун.[35]
И, управляя розовым конем,
Ширин — как розы лепесток на нем.
Она пустила сразу вскачь коня —
Остались сзади свита и родня,
И конь, послушный пери, так скакал,
Что пот росой на розе засверкал.
Для уловленья в сеть ее красы, —
Как два аркана черных, две косы —
Две черных ночи, и меж той и той, —
Пробор белел камфарною чертой.
Злоумышляла с бровью будто бровь,
Как сообща пролить им чью-то кровь,
И на коране ясного лица
Быть верными клялись ей до конца.
Полны то сладкой дремою глаза,
То страсть пьянит истомою глаза.
А губы — нет живительнее губ,
И нет сердцегубительнее губ!
Как от вина — влажны, и даже вид
Их винной влаги каждого пьянит.
Хоть сахарные, но понять изволь,
Что те же губы рассыпают соль,[36]
А эта соль такая, что она
Сладка, как сахар, хоть и солона.
Другой такой ты не найдешь нигде —
Подобна эта соль живой воде!
А родинка у губ — как дерзкий вор,
Средь бела дня забравшийся во двор,
Чтоб соль и сахар красть. Но в них как раз
По шею тот воришка и увяз.
Нет, скажем: эти губы — леденец,
А родинка у рта — индус-купец:
И в леденец, чтоб сделать лучше вкус,
Индийский сахар подмешал индус.
И о ресницах нам сказать пора:
Что ни ресничка — острие пера,
Подписывающего приговор
Всем, кто хоть раз на пери бросит взор.
Нет роз, подобных розам нежных щек;
На подбородке — золотой пушок
Так тонок был, так нежен был, что с ним
Лишь полумесяц узенький сравним,
При солнце возникающий: бог весть,
Воображаем он иль вправду есть.
Жемчужины в ушах под стать вполне
Юпитеру с Венерой при Луне.
Для тысяч вер угрозою угроз
Была любая прядь ее волос.
А стан ее — розовотелый бук,
Нет, кипарис, но гибкий, как бамбук.
Заговорит — не речь, — чудесный мед,
Харварами мог течь словесный мед.
Но, как смертельный яд, он убивал
Вкусившего хоть каплю наповал…
Такою красотой наделена
Была Ширин. Такой была она
В тот день, когда предстала среди скал
Тому, кто, как мечту, ее искал.
И вот он, чародей-каменолом,
В одежде жалкой, с царственным челом.
Величьем венценосца наделен,
Он был силен, как разъяренный слон,
А благородно-царственным лицом
Был времени сияющим венцом.
В пяту вонзился униженья шип,
А камень бедствий голову ушиб.
Боль искривила арки двух бровей,
Хребет согнулся под горой скорбей,
Легли оковы на уста его,
Но говорила немота его.
На нем любви страдальческой печать,
На нем тоски скитальческой печать.
Однако же — столь немощен и худ —
Он совершает исполинский труд:
С горой в единоборство он вступил —
Гранит его упорству уступил…
Фархад, узрев Ширин, окаменел,
То сердцем леденел, то пламенел.
Но и сама Ширин, чей в этот миг
Под пеленою тайны вспыхнул лик,
К нему мгновенной страстью занялась,
Слезами восхищенья облилась.
На всем скаку остановив коня,
Едва в седле тончайший стан склоня,
Тот жемчуг, что таят глубины чувств,
Рассыпала, открыв рубины уст:
«О доблестнейший витязь, в добрый час
Пришедший к нам, чтоб осчастливить нас!
С обычными людьми не схож, ты нам
Загадка по обличью и делам.
По виду — скорбен, изможден и хил,
Ты не людскую силу проявил, —
Не только силу, но искусство! Нет,
Не знал еще такого чуда свет!
Но, от большой беды избавив нас,
Ты в затрудненье вновь поставил нас:
Ведь сотой части твоего труда
Мы оплатить не сможем никогда.
За скромные дары не обессудь, —
Не в них признательности нашей суть…»
Фархад от изумленья в землю врос.
А ей закрытый подали поднос
С дарами драгоценными; никто
Не мог бы оценить богатство то.
Поднос рукой точеною открыв,
Ширин, все извиненья повторив,
Дарами стала осыпать того,
Чье чудом ей казалось мастерство.
Фархад стоял, как бы ума лишен,
Так был он поражен, обворожен
Негаданно счастливой встречей той,
Изысканной, учтивой речью той.
Так сердце в нем стучало, что чуть-чуть
Его удары не разбили грудь,
И сам он с головы до ног дрожал,
Все успокоиться не мог — дрожал.
Но вот уста открыл каменотес
И, задыхаясь, еле произнес:
«Я умер от дыханья твоего,
Погиб от обаянья твоего!
Но я не знаю, кто ты! Уж не та ль,
Чей образ вверг меня навек в печаль
И отнял трон, и родину, и дом
И кем я был в скитальчестве ведом
И на чужбину брошен, пред тобой
Повержен в прах, ничтожный камнебой?
Душа меня покинула, едва
Произнесла ты первые слова.
Нет, я живу, не мог я умереть —
Твое лицо я должен был узреть!»
Вздохнул он. Ветер вздоха был таков,
Что с луноликой он сорвал покров.
Да, перед ним теперь предстала та —
Его любовь, страдание, мечта!
Но кто лишь отраженье увидал
Возлюбленной, и то Меджнуном стал,
Не будет ли небытием сражен,
Чуть самоё ее увидит он?
Кто, вспомнив о вине, хмелеет, — тот,
Хлебнув его, в бесчувствие впадет…
Едва Ширин свой приоткрыла лик,
Фархад ее узнал, и в тот же миг
С глубоким стоном, мертвеца бледней,
Как замертво, сватался перед ней.
Увидев, что, как труп, он распростерт,
Ширин воскликнула: «Он мертв, он мертв!»
Как тучей помраченная луна,
Померкла, огорченная, она…
Едва тот светоч верности угас,
К нему, как легкий мотылек, тотчас
Поспел Шапур — и горько зарыдал:
«О ты, несчастный! Ты всю жизнь страдал:
Печаль и муки — вот твоя судьба,
Тоска разлуки — вот твоя судьба!
Путь верности ты в мире предпочел,
Но вот какой привал на нем нашел!
Ты на него лишь раз взглянул затем,
Чтоб в тот же миг расстаться с бытием.
Чист сердцем, как ребенок, был, — увы!
В сужденьях мудр и тонок был, — увы!
Ни совесть ты не замарал, ни честь, —
Всех совершенств твоих не перечесть,
Тебе уж не стонать, страдальцу, впредь?
Не двинуть ни рукой, ни пальцем впредь!
Где мощь твоя, крушительница скал?
В ущельях, что киркой ты высекал!
Что блеск и что величие твои,
Высокие обычаи твои?
Раз не возглавишь ты людей земли,
Какой же людям прок от всей земли?
Какие страны, в траур облачась,
Тебя начнут оплакивать сейчас?
Какой народ всех более скорбит,
Какой хакан несчастием убит?
Ах, лучше бы не знать Фархада мне, —
И горе не было наградой мне!»
Так горевал Шапур. Не он один:
Рыдала столь же горько и Ширин,
Михин-Бану не сдерживала слез,
И плакал весь цветник придворных роз.
Потом уже, подавлен и понур,
Поведал им учтивейший Шапур
Все то, что знал о друге он своем,
О встрече с ним, о странствиях вдвоем…
Но время наступило, наконец,
Обратно возвращаться во дворец.
Шел медленно печальный караван.
И на носилках пышных, словно хан,
Лежал Фархад… нет, — как великий шах,
Несомый девушками на плечах!
Затем в одной из царственных палат
Оплакан всеми снова был Фархад.
И жизни словно не принадлежал,
На царственном он ложе возлежал.
Эй, кравчий, верный друг мой, поспеши,
Вином крепчайшим чувств меня лиши!
Я притчей стал, в любви не меря чувств,
А если пить — так до потери чувств!
ГЛАВА XXXII