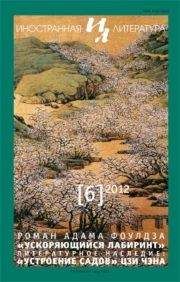Луций Апулей - «Метаморфозы» и другие сочинения
20.508 Есть знаменитое изречение мудреца509 в застолье: «Первую чашу, — говорит он, — пьем мы для утоления жажды, вторую — для увеселения, третью — для наслаждения, а четвертую — для сумасбродства». Но о чашах Муз можно сказать обратное: чем они чаще, тем они чище и тем они способственнее душевному здравию. Первая чаша образовывает у начального учителя, вторая наставляет в науке грамматика, третья вооружает красноречием ритора. До этих пор все обычно и пьют. Я же испил в Афинах и другие чаши: поэзию замысловатую, геометрию ясную, музыку сладкую, диалектику едкую и, наконец, целокупную философию, неисчерпаемую и поистине нектарную. И вот Эмпедокл поет поэмы, Платон — диалоги, Сократ — гимны, Эпихарм — мимы, Ксенофонт — истории, Кратет — сатиры,510 — а ваш Апулей подвизается во всем этом сразу и всем девятерым Музам равно служит: правда, с большим пылом, чем ему по силам, но за это, может быть, он еще достойнее хвалы, потому что во всяком хорошем деле почин — заслуга, а удача — дело случая; и наоборот, во всяком дурном деле преступление задуманное, но не совершенное достойно суда, потому что рука чиста, да мысль кровава. Стало быть, как мысль о предосудительном достаточна для наказания, так и попытка к достохвальному достаточна для хваления. А что достохвальнее, нежели прославление Карфагена — города, в котором все вы — люди ученейшие, всякую науку у вас юные учат, взрослые применяют, старцы преподают?
Карфаген — нашей провинции высокочтимая школа, Карфаген — всей Африки небесная Муза, Карфаген — Камена народа, облаченного в тогу.511
21.512 И в необходимой спешке бывают уважительные задержки, особенно когда неприятности перебивают намерение. Например, когда нужно выезжать в повозке, то иным милей трястись на коне, чем сидеть в телеге: и много груза, и тяжел кузов, и колеса огромные, и колеи неровные, там пень, там камень, луга без дороги, холмы не пологи, — вот всех этих помех и желает избежать человек. Берет он себе коня, спиною крепкого, ногою скорого, чтоб силен был везти и проворен идти —
что за единый скачок холмы и луга перескочит, —
как говорил Луцилий.513 Но вот на этом коне выехал он и летит во весь опор, как вдруг видит человека из первых в городе, которого все знают, все уважают, все слушают, — и вот как ни торопится человек, но из почтения сдерживает бег, переходит на шаг, останавливает коня, соскакивает наземь; прут, которым погонял, перехватывает в левую руку, а правую простирает для приветствия, и подходит, и если разговор завязывается долгий, то долго они гуляют и болтают, — словом, какова бы ни была задержка по делу, от нее не отказываются никогда.
22. Тот Кратет,514 Диогенов ученик, почитался в Афинах того времени как домашний Лар, — все дома ему были открыты, ни у одного хозяина не было такой тайны, чтобы Кратет появился не в пору, разборщик и уговорщик на всякую родственную ссору. Как о Геркулесе говорят поэты, будто по целому свету он чудовищ дерзких, человеческих и зверских, доблестью побеждает и землю освобождает, — так и этот философ был Геркулесом515 против гнева и зависти, против похоти и скупости, против всех чудовищ — пороков души человеческой. Эту заразу он из душ изгонял, семейства очищал, злонравие укрощал — сам полуголый и с палкою тяжелой, даже родом-то он был из Фив, откуда и Геркулеса выводит миф. Так вот, Кратет, прежде чем стать истинным Кратетом, был из первейших фиванских граждан: род знатный, челяди множество, дом богатый, вход разукрашенный, сам хорошо одетый, именьями не обделенный. Но когда он понял, что от наследного имущества нет ему в жизни никакой опоры, что все богатства на свете неверны и ненадежны и для хорошей жизни бесполезны <…>
23.516 Не так же ли прекрасный корабль, мастером сработанный, внутри крепко сколоченный, снаружи красиво расписанный, кормило послушное, мачта высоченная, щегла517 отменная, вершина приметная, паруса так и блещут, все снасти к употреблению удобные и к посмотрению приглядные, — но если кормчий им не управляет и бурям его предоставляет, то со всеми этими отличнейшими средствами как скоро он или ко дну пойдет, или на скалах погибель найдет!
Впрочем, так же и врачи: когда входят они посетить больного и видят полон дом прекрасных картин, потолок штучный и позолоченный, в опочивальне вкруг одра стоят толпою мальчики и юноши, то от этого никакой врач не скажет больному: «Бодрей!» Нет, он рядом подсядет, руку больного погладит, нащупает жилу, пульса уловит частоту и силу, и если что не в порядке, то скажет больному: «Плохи дела!» И вот богачу запретили пищу. С того дня в роскошном своем жилище крошки хлеба он в рот не берет, хотя все его прислужники веселятся и пируют вволю. В таком положении нет от богатства никакого вспоможения.
О БОЖЕСТВЕ СОКРАТА
DE DEO SOCRATIS
Перевод А. Кузнецова
518
1. Платон все в природе, что относится к существам главенствующим, разделил на три части и определил, что высшие — боги. Высшее, среднее и низшее следует понимать не столько в обособлении мест, но, скорее, в достоинствах природы, которых не одно, как мы знаем, не два, но множество. Однако ради понятности он начал с распределения мест. Как и требует величие, уделил он бессмертным богам небо, и одних из этих небесных богов мы постигаем зрением, других же исследуем разумением. Наше зрение распознает, конечно,
вас, о яснейшие мира
светочи, те, кто ведет по небу года стремленье.
Но не только они — существа главенствующие, дня творец и Луна, соперница Солнца, ночи украшение. Рогатая она или половинная, растущая или полная (ибо разнообразно лик ее пылает, и чем далее от Солнца она отступает, тем более она сияет, и соответствует удалению сила ее освещения, и месяцам мера ее возрастание, а после — равномерное убывание), владеет ли она собственным блеском и постоянным (или), как считают халдеи, одна часть ее обладает светом, другая лишена сияния, и она, многообразная, пестрый свой лик поворачивая, вид свой меняет; или вся она обделена собственным пыланием и нуждается в приемном свете, и тело ее, плотное и гладкое, подобно зеркалу некоему, лучи Солнца, или в стороне, или напротив нее стоящего, похищает и, если воспользоваться словами Лукреция, «отметает от тела чужой свет».
2. Какое бы из этих двух мнений ни было верным, — а в другой раз я рассмотрю это, — никто, грек он или варвар, не замедлит признать, что и Солнце и Луна — боги, и, как я сказал уже, не только они, но еще и пять светил, которые обычно люди невежественные называют блуждающими, хотя они в беге определенном и постоянном, не отклоняясь, совершают божественной чередой путь упорядоченный и вечный. Различны, конечно, по виду их колесницы, но всегда с одной и неизменной скоростью они то вперед шествуют, то назад, с удивительной закономерностью сообразуясь с положением, кривизной и <наклоном> орбит, о чем хорошо знает тот, кто постиг закат и восход светил.
В число видимых богов включи, конечно, и остальные светила, если ты согласен с Платоном:
дождь приносящи Гиады, Арктур и двойные Трионы,
и других лучащихся богов, которые небесный хоровод, как мы видим погожей порой,
в ночь узорную суровой красотой, убранством грозным
венчают и окружают, и на этом, по словам Энния, совершенном «щите» мира мы созерцаем дивных огней бесчисленные чеканы.
Есть и другой род богов, которых видеть природа нам запретила, но мы постигаем их мыслью и созерцаем отчетливо благодаря проницательности ума. В их числе и те двенадцать, имена которых Энний сжато расположил в двух стихах:
Веста, Минерва, Церера, Юнона, Диана, Венера,
Марс, Аполлон, Вулкан, Нептун, Юпитер, Меркурий;
и другие того же рода, имена которых уши наши давно уже знают, а силу души подозревают, замечая их разнообразные благодеяния в тех делах нашей жизни, о которых каждый из них особо заботится.
3. Но несмыслящая в философии толпа невежд, почтения лишенная, суждением правильным обделенная, верой бедная, истине чуждая, в исполнении обрядов усердная, в пренебрежении надменная, богов забывает, и одни от суеверия, другие от высокомерия или кичливы, или боязливы. И вот всех этих богов, на горней вершине эфира расположившихся и от соприкосновения с людьми удалившихся, почитают многие, но неправедно; страшатся все, но бессмысленно, отрицают иные, но нечестиво — богов, которых Платон считал природами нетелесными, без начала и без конца, вперед и вспять вечными и от соприкосновения с телом отстраненными благодаря своей природе и духу, совершенному в высшем блаженстве. Они не принимают никакого внешнего блага, но сами благо для себя и для всего, к ним стремящегося быстро, легко, просто, свободно и беспрепятственно.