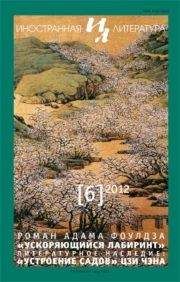Луций Апулей - «Метаморфозы» и другие сочинения
А божественный Адриан на могильном памятнике друга своего, поэта Вокона, написал так:
Был ты стихом шаловлив и помышлением чист, —
хотя никогда не сказал бы такого, если бы некоторое поэтическое легкомыслие было верным доказательством житейского бесстыдства. А я помню, что читал многое в подобном роде, сочиненное даже и самим божественным Адрианом, — так не трусь, Эмилиан, скажи людям, сколь вредоносны достопамятные творения законоблюстителя и державного полководца — божественного Адриана! И притом неужто ты полагаешь, будто Максим, зная, что сочиняю я в подражание Платону, осудит меня за эти сочинения? Приведенные мною сейчас в пример Платоновы стихи столь же чисты, сколь нелицемерны, и столь же скромны слогом, сколь просты смыслом, ибо развратная игривость во всех подобных обстоятельствах лукавит и таится, а игривость шутливая признается сразу и откровенно. Воистину, невинности природа даровала голос, а порок наградила немотой!
12. Не стану долго изъяснять возвышенную и божественную Платонову науку — людям благочестным она редко незнакома, а невеждам и вовсе неведома. Но есть Венера, богиня двойная,16 и каждая из сих близниц державствует над особыми и различными Любовями и любовниками. Одна Венера — всепригодная, распаляется она любовью, свойственной черни, не только в людские души, но также и в звериные и в скотские вселяет она похоть и с неодолимою силою властно гонит к соитию содрогающиеся тела покорных тварей. А другая Венера — небесная — володеет наизнатнейшею любовью и печется лишь о людях, да и то о немногих: почитателей своих не понуждает она к разврату стрекалом и не склоняет прельщением, ибо отнюдь не распутная и беспечная прилежит ей любовь, но чистая и строгая, красою честности внушающая любовникам доблесть и добродетель. Ежели порой сия Венера и наделит плоть лепотою, то никогда не внушит желания осквернить прекрасное тело, ибо телесная миловидность и мила лишь оттого, что напоминает богодухновенным умам об иной красоте, которую зрели они прежде среди богов в истинной и беспримесной святости ее. Итак, хоть и с отменным изяществом сказано у Афрания:17 «Будет мудрый любить, будет толпа вожделеть», однако же если тебе, Эмилиан, желательно знать правду и если ты в состоянии правду эту понять, знай: мудрый не столь любит, сколь воспоминает. 13. Посему прости уж философу Платону его любовные вирши, дабы не пришлось мне тут, наперекор Энниеву Неоптолему,
пространно слишком философствовать.18
Ну, а если и не простишь, мне все-таки полегче будет за сочинение подобных стихов делить вину с самим Платоном. Тебе же, Максим, я премного благодарен за внимание, с коим слушаешь ты даже эти попутные мои рассуждения, которые для защиты моей необходимы, чтобы ответить обвинению слово за слово. А потому очень прошу тебя: выслушай с такою же охотою и удовольствием, как слушал до сих пор, все, что мне осталось сказать, прежде чем я перейду собственно к статьям обвинения.
Тут еще была речь — очень долгая и очень суровая — о зеркале,19 о коем Пудент кричал как о чем-то совершенно жутком, так что едва не лопнул от своих воплей: «Зеркало у философа! у философа есть зеркало!» Ладно, пусть я соглашусь с этим — ведь начни я отказываться, ты еще пуще уверуешь, будто в чем-то меня уличил! — однако же это не обязательно понимать в том смысле, что я непременно перед своим зеркалом охорашиваюсь. Да и с чего бы? Будь я владельцем всякого театрального скарба, неужто ты на этом основании решился бы доказывать, что я частенько наряжаюсь то в трагические ризы, то в женский шафран, то в лоскутные лохмотья мима? Вряд ли, ибо все как раз наоборот: существуют весьма многие вещи, которыми я владеть не владею, а пользоваться пользуюсь. А если владеть не значит пользоваться и не владеть не значит не пользоваться, а вина моя не во владении зерцалом, но в созерцании оного, — если так, ты обязан еще и указать, когда и при ком я в это зеркало глядел, коль скоро ты полагаешь, что философу смотреть в зеркало кощунственнее, нежели непосвященному взирать на святой убор Цереры.20
Но пусть я даже и признаюсь, что гляделся в зеркало, — неужто так уж преступно знакомство с собственным обличием? неужто преступно не хранить обличие свое запечатленным в одном только месте, а носить с собою в маленьком зеркальце, куда пожелаешь? Или тебе неведомо, что взору живого человека всего привлекательнее собственная наружность? Мне вот известно, что родителям кажутся милее похожие на них дети, а тому, кто заслужил награду, сограждане ставят статую, дабы награждаемый сам себя лицезрел, — зачем бы иначе люди желали для себя стольких изваяний и изображений, произведенных многоразличными художествами? Разве мы хвалили бы нечто, изображенное художеством, если бы осуждали его, отображенное самой природою? А ведь природа способна все воспроизвести на диво легче и сходственнее, ибо всякое рукотворное изображение создается в долгих трудах, однако же такого сходства, как зеркальное подобие, не достигает: глине не хватает твердости, камню — красок, живописи — объема, а всему этому вместе — подвижности, которая сообщает сходству особливую достоверность. Зато в зеркале видно предивное подобие образа — столь же похожее, сколь подвижное и отвечающее всякому мановению хозяина своего; да притом всегда ему ровесное от раннего младенчества и до поздней старости, ибо отражает зерцало все приметы возраста, являет с точностью все движения тела и подражает всем переменам в лице, будь то улыбка веселья или слезы печали. Между тем все, что вылеплено из глины, либо отлито из меди, либо высечено из камня, либо писано ярым воском, либо рисовано пестроцветными красками, — вообще всякое рукотворное подобие, каким бы искусством оно ни было сотворено, — все это по прошествии малого времени теряет сходство с изображенным и являет облик неизменный и недвижный, подобясь трупу. Вот насколько в отображении сходства превосходит зеркало все художества ваяющим своим лоском и живописующим своим блеском!
15. Стало быть, нам остается или следовать мнению одного лишь лакедемонянина Агесилая,21 который из-за недоверчивого недовольства своею наружностью не допускал к себе никаких ваятелей и живописателей, или принять обычай, очевидным образом соблюдаемый всеми прочими людьми, — не шарахаться от изваяний и картин. Тогда почему же ты рассуждаешь, будто видеть себя в тесаном камне можно, а в гладком серебре нельзя, почему раскрашенная доска лучше, а чистое зеркало хуже? Не решил ли ты, что привычка к постоянному созерцанию собственного облика бесстыдна? Но разве не о философе Сократе передают, что он даже советовал ученикам своим почаще и подольше глядеться в зеркало — и кто внешностью своею будет доволен, тот пусть изо всех сил старается не осквернить телесной красоты дурными нравами, а кто найдет себя недостаточно миловидным, тот пусть поревностнее заботится прикрыть природную неуклюжесть славою добродетели? Итак, мудрейший среди людей употреблял зеркало для научения честным нравам! Тоже и Демосфен, наипервейший в искусстве красноречия, — разве хоть кто-нибудь не помнит, что к судебным прениям он всегда готовился перед зеркалом, словно перед учителем словесности? Да, сей великий вития, хотя и почерпнул слог свой у философа Платона, хотя и поучился спору у диалектика Евбулида,22 однако же окончательного совершенства принародно звучащих словес своих искал именно у зеркала! Кто же, по-твоему, больше должен заботиться о стройности и складности убедительной речи — уличающий ритор или обличающий философ? тот, кто краткое время разглагольствует перед избранными по жребию присяжными, или тот, кто постоянно рассуждает перед лицом всего человечества? тот, кто судит и рядит о межевании полей, или тот, кто толкует о границах добра и зла?
Да и не только потому надлежит философу глядеться в зеркало, а еще и вот почему. Нам нередко надобно рассмотреть и обдумать не одно лишь свое подобие, но скорее причину самого подобия вообще. Быть может, как учит Эпикур, изображения исходят от нас же, отделяясь от тел бесперерывною и текучею чередою, словно непрестанно скидываемые одежды, а после натыкаются на нечто гладкое и твердое, толчком отражаются обратно и в обратном этом отражении переворачиваются другой стороной? Или, быть может, как рассуждают другие философы, присущие нам лучи истекают из зениц очей и смешиваются с внешним светом, сливаясь с ним воедино, — это мнение Платона, — или просто исходят из очей, не обретая никакой подмоги извне, — это мнение Архита? А быть может, как утверждают стоики, сии лучи, если под давлением воздуха падут на некое плотное и гладкое и блестящее тело, то отражаются обратно под углом, равным углу падения, и возвращаются к нашему взору, тем самым изображая внутри зеркала все, что осязают и что высвечивают вне зеркала? 16. Неужто вам не ясно, что только философы и должны все это исследовать и изучать, наблюдая любое зерцало — хоть жидкое, хоть твердое? Да кроме того, о чем я сказал, философам непременно надобно еще и поразмыслить, почему в плоских зеркалах размеры предметов изображаются почти точно, в выпуклых и шаровидных всегда уменьшаются, а в вогнутых, напротив, увеличиваются; а еще где и почему правое превращается в левое; а еще каким образом в одном и том же зеркале отражение то удаляется в глубину, то придвигается к поверхности; а еще почему вогнутое зеркало, ежели держать его против солнца, зажигает положенный перед ним трут; а еще почему радуга в тучах — разноцветная; а еще почему случается наблюдать разом два солнца, и оба одинаковые; и еще великое множество подобных явлений, описанных в большой книге Архимеда Сиракузского, а сей муж всех превзошел достославною изощренностью своей во всех областях геометрии, но едва ли не более всего достопамятен тем, что часто и пристально наблюдал зеркала. Когда бы ты, Эмилиан, знал названную книгу и когда бы ты подарил свое внимание не только навозу и чернозему, но также абаку23 и чертежному песку,24 то уж поверь! хоть лицом ты и ужасен, как Фиест в трагедии,25 однако же и ты, взыскуя науки, принялся бы глядеться в зеркало и когда-нибудь, бросив плуг, подивился бы на борозды собственных несчетных морщин!