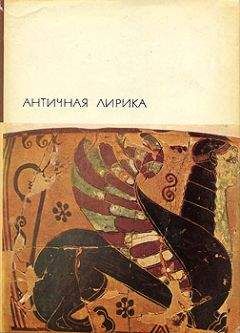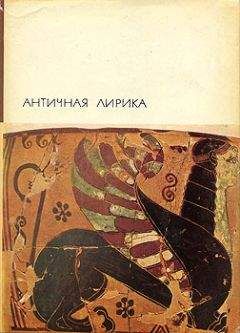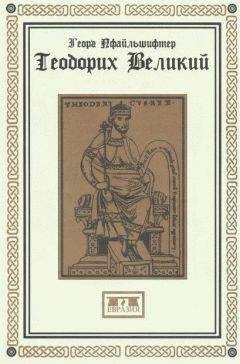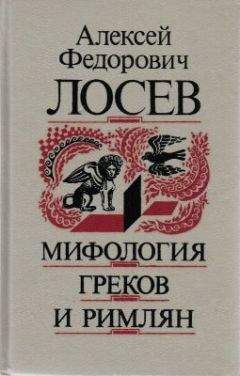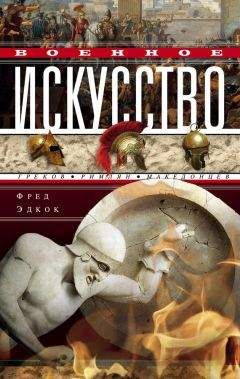Луций Апулей - Флориды
Вместо всего этого человеку дан свыше голос, который, правда, не столь могуч, как у зверей, но зато доставляет больше пользы уму, чем наслаждения уху. Поэтому применять его следует как можно чаще, но – только в публичных выступлениях, при таком председателе, как ты, при таком блистательном и огромном стечении людей образованных, людей благосклонных, как сегодня. Что касается меня, то будь я величайшим мастером игры на кифаре, я искал бы только самых многолюдных мест. В уединении пели
В чаще густой, среди леса Орфей, Арион меж дельфинов [91],
если только можно верить преданиям, рассказывающим, будто изгнанник Орфей [92] оказался в полном одиночестве, Ариона же бросили с судна в море [93], и первый сумел укротить лютых зверей, а другой очаровал сострадательных животных. Несчастнейшие оба певцы! Ведь не по доброй воле и не славы ради напрягали они все свои силы, а по необходимости и ради спасения. Я был бы восхищен ими гораздо больше, если бы у людей, а не у зверей имели они успех. Во всяком случае, те уединенные места подошли бы скорее птицам – дрозду, соловью, лебедю. В пустынных краях щебечут дрозды свою детскую песенку; надежно укрытые от чужих взоров, высвистывают соловьи свою юношескую песнь; на недоступных речных берегах [94] распевают лебеди свой старческий гимн. Но тот, кто намеревается принести своей песней пользу и детям, и юношам, и старцам, пусть поет в окружении тысячных толп, так, как воспеваю я в эту минуту достоинства Орфита, – гимн, быть может, несколько запоздалый, но исполненный глубокого значения и не менее приятный, чем полезный для карфагенских детей, юношей и старцев. Да, потому что всех их облагодетельствовал своими милостями лучший из проконсулов: сделав потребности более скромными и умеренно применяя горькие лекарства, он даровал детям довольство, юношам веселье, старцам безопасность.
Я опасаюсь, однако, Сципион, как бы теперь, когда я начинаю восхвалять тебя, не преградила мне путь либо твоя благородная скромность, либо моя врожденная застенчивость. Но я не могу сдержать себя при мысли о тех бесчисленных добродетелях, которые вполне заслуженно восхищают всех нас, не могу сдержать себя и коснусь хоть нескольких из них. Вы же, граждане, обязанные ему столь многим, припоминайте вместе со мной [95].
XVIII.
Видя, в каком огромном количестве вы собрались послушать меня, я должен, пожалуй, скорее поздравить Карфаген, насчитывающий такое множество друзей науки, чем пытаться оправдать свое согласие – согласие философа – выступить публично [96]. В самом деле, величие города объясняет многолюдность собрания, а значительность собрания объясняет выбор места. Кроме того, стоя перед такими слушателями, как вы, следует обращать внимание не на мраморную мозаику пола, не на устройство просцениума [97], не на колонны сцены; не смотри, что так высоко кровли конек, что блестящею отделкой разукрашен потолок, что скамейки в амфитеатре кругом идут; неважно, что в другие дни здесь мим [98] гримасничает, комик болтает, трагик восклицает, канатоходец шею себе едва не ломает, фокусник пыль в глаза пускает, актер слова жестом сопровождает и все остальные артисты показывают народу, кто что умеет. Так вот, всеми этими обстоятельствами следует пренебречь и обратить все внимание на образ мыслей собравшихся и выступление оратора [99].
Поэты обыкновенно подменяют эту сцену, которую вы видите перед собой, тем или иным городом, как, например, тот автор трагедий [100], который говорит устами актера:
Вот Киферон священный [101], Либер здесь живет.
Или еще у комического поэта:
Ничтожного местечка просит Плавт у вас
В большом и красотою гордом городе:
Афины он сюда без архитектора
Перенесет [102].
Вот и мне разрешите заменить ее, но не каким-нибудь отдаленным заморским городом, а курией самого Карфагена или его библиотекой. Итак, если я произнесу нечто достойное курии, представьте себе, что вы слушаете меня в самой курии, а если речь будет отличаться ученостью, – что вы читаете ее в библиотеке. Пусть же изобилие моего красноречия окажется достойным величия этого собрания, и да не изменит оно мне здесь, где я мечтал бы обнаружить дарование самого искусного из всех ораторов!
Но правы, конечно, те, кто утверждает: никогда не выпадает свыше на долю человека такая удача, чтобы не было к ней примешано чего-то неприятного, так что и в самой полной радости есть какая-то, пусть даже очень незначительная, неудовлетворенность, и мед каким-то образом смешивается с желчью: нет розы без шипов [103]. Я сам неоднократно испытывал это прежде, испытываю и сейчас: чем большими представляются мне ваши благосклонность и одобрение, тем сильнее величайшее уважение к вам сковывает мне язык. И это я, тот самый человек, что столько раз выступал без малейшего затруднения в чужих городах, теперь, среди своих сограждан колеблюсь и запинаюсь, и – удивительное дело! – сами соблазны отпугивают меня, поощрения сдерживают, побуждения останавливают! Разве мало у меня поводов к тому, чтобы чувствовать себя уверенно среди вас? Ведь мой родной дом стоит на вашей земле, детские годы знакомы вам, учителя – ваши сограждане, философская школа известна, голос мой вы слышали, книги читали и по заслугам оценили. Да! Моя родина там, где заседает собрание Африки, то есть – ваше собрание, мое детство прошло среди вас, учителя мои – вы, и мои философские взгляды хоть и сложились окончательно в аттических Афинах, но наметились они здесь, мой голос, говорящий на обоих языках [104], вот уже шестой год как звучит в ваших ушах и хорошо вам известен, а что касается моих книг, то никакая похвала ни в каком ином месте не может быть для них дороже, чем ваше суждение и одобрение. Эти столь крепкие и многочисленные узы взаимных связей влекут вас послушать меня в той же мере, в какой уменьшают мою уверенность в себе, и мне было бы легче произнести похвальное слово в вашу честь в любом другом городе, чем стоя перед вами: так уж устроены люди, что в окружении близких по вине скромности исчезает решительность, а в окружении чужих людей истина легко и свободно находит свое выражение. Поэтому всегда и повсюду я прославляю вас как моих родителей и первых наставников, вручая вам плату за учение, но не ту, которую софист Протагор [105], назначивши, не получил, а ту, которую мудрец Фалес [106] получил, не назначая. Да, я вижу, о чем вы просите – сейчас расскажу и о том, и о другом.
Софист Протагор, человек обширных и разносторонних знаний, отличавшийся среди первых изобретателей риторики своим красноречием, согражданин и сверстник естествоиспытателя Демокрита [107] – у него-то и заимствовал Протагор все свое учение целиком – этот-то самый Протагор, как рассказывают, назначил своему ученику Эватлу плату за учение непомерно высокую, правда, но с одним необдуманным условием: Эватл лишь в том случае обязывался уплатить деньги учителю, если выиграет свое первое дело в суде. Итак, Эватл, человек от природы изворотливый и хитрый, с легкостью изучив все способы вызывать у людей жалость, все ловушки, которые противные стороны ставят друг другу, все словесные уловки, решает, что с него достаточно, что он уже знает все, что хотел знать, и начинает уклоняться от выполнения договора, ловко придумывает отсрочку за отсрочкой, водит учителя за нос, не соглашаясь в течение довольно долгого времени ни взять на себя ведение дела, ни уплатить долг. Наконец, Протагор вызвал его в суд и, рассказав об условии, на котором он принял Эватла в число своих учеников, сделал вывод в форме дилеммы: «Если я выиграю, – сказал он, – тебе придется отдать мне плату по приговору суда, а если выиграешь ты, все равно придется тебе расплачиваться – в соответствии с нашим договором: ведь тогда окажется, что ты выиграл свое первое дело в суде. Таким образом, выиграв, ты попадаешь под действие условия, проиграв, – под действие приговора». Стоит ли говорить, что сделанное умозаключение показалось судьям убедительным и неопровержимым? Но Эватл – недаром он был лучшим учеником такого небывалого хитреца! – вывернул наизнанку эту дилемму. «Если так, – заявил он, – то ни в том, ни в другом случае я не должен тебе того, что ты требуешь. В самом деле: либо я выигрываю, и тогда решение судей освобождает меня от всех обязательств, либо проигрываю, и тогда моя правота устанавливается на основании договора, где говорится, что я не должен ничего платить, если проиграю свое первое дело в суде, то есть – наше сегодняшнее дело. Итак, в любом случае я буду оправдан: проиграв – нашим условием, выиграв – судебным определением» Не кажется ли вам, что эти обращенные одно против другого доказательства софистов напоминают колючки, сцепившиеся в комок от ветра: с обеих сторон шипы равной остроты, одинаковой глубины уколы, обоюдонаносимые раны? Оставим же вознаграждение за протагорову науку, со столькими трудностями, со столькими терниями сопряженное, людям изворотливым и алчным. Насколько прекраснее другое вознаграждение – то, что попросил, как рассказывают, для себя Фалес.