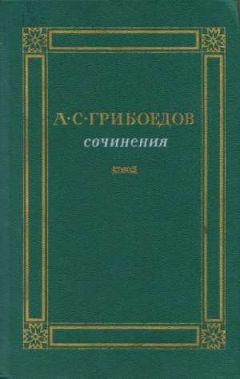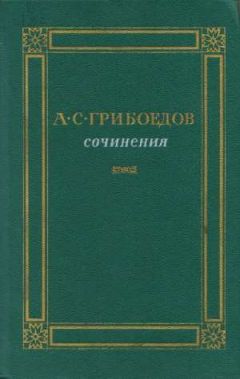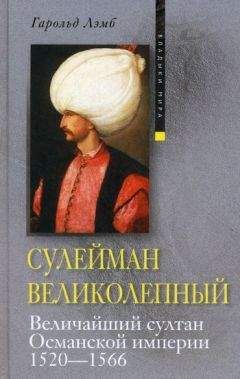Плутарх - Сочинения
Это было безусловной новостью для греческой философии и литературы потому, что все классическое и уж тем более все доклассическое никогда не знало никакой специальной моралистики. Дело в том, что вся классика живет героизмом, а героизму нельзя было научиться, героизм давался только самой природой, то есть только богами. Все древние герои были либо прямыми, либо косвенными потомками только самих же богов. Совершать героические подвиги можно было, конечно, только после прохождения предварительной героической подготовки. Но сделаться героем было нельзя. Можно было только родиться героем и усовершенствоваться в героизме. Но древнегреческий классический героизм — это область не педагогическая, не воспитательная и потому не моралистическая. Героизм в те времена был явлением природно-человеческим, естественно-человеческим или, что то же, божественным. Но вот классика кончилась. И что же?
А то, что теперь, в период эллинизма, выступил уже самый обыкновенный человек, не потомок богов, не герой по природе, а просто человек. Этого обыкновенного человека нужно было очень многому учить, бесконечно учить. Для своих повседневных дел такой человек должен был специально воспитываться, специально обучаться и тренироваться, всегда консультироваться у старших и опытнейших. И вот тут-то как раз зародилась та моралистика, которая была неизвестна классическому герою. Чтобы стать приличным и достойным человеком, нужно было знать тысячи личных, общественных и, вообще говоря, моральных правил. Нужно было все время упражняться в достижении соответствующих правильных форм жизни. Даже и сама поэзия в те времена нередко становилась ученой поэзией, со своим умением соблюдать сотни и тысячи ученейших правил. Риторику греки всегда любили, не исключая Платона и Аристотеля; даже и риторические руководства то и дело появлялись уже в период классики. Но что сделалось с этой риторикой в период эллинизма?
Она превратилась в дотошную и скрупулезную дисциплину с бесконечными терминологическими различиями и с тончайшими стилистическими наставлениями. И эта ученая педагогика в риторических делах была по преимуществу тоже созданием начального периода эллинизма, поскольку ученость тоже была одной из популярных тенденций раннеэллинистического субъективизма.
И вот Плутарх — моралист. И не просто моралист. Моралистика — это его подлинная стихия, беззаветная тенденция всего его творчества, никогда не угасающая любовь и какое-то педагогическое наслажденчество. Только бы учить, только бы наставлять, только бы разъяснять трудные вопросы, только бы поставить своего читателя на путь вечного самоанализа, вечного самоисправления и неотступного самосовершенствования. Многие считают, что даже «Сравнительные жизнеописания» писались Плутархом исключительно ради морально-поучительных целей. Дальше мы увидим, что это было совершенно не так. В «Сравнительных жизнеописаниях» было множество других тенденций и методов, других образов, других писательских приемов. Но что морализм пронизывает собою все эти «Жизнеописания» (наряду со многим другим), — об этом спорить невозможно.
Итак, бытовизм и морализм — это те две стихии, которые перешли к Плутарху из начальной ступени эллинизма. Интереснее всего, однако, то, что эти две стихии, взятые и раздельно, и даже вместе, вовсе не характерны для Плутарха, если в нем находить что-нибудь специфическое. И бытовизм, и морализм выступали у него в таком небывалом переплетении со всеми другими тенденциями его творчества, что часто принимали прямо-таки неузнаваемый вид. Но чтобы формулировать то новое, что обнаруживается у Плутарха наряду с начальным эллинизмом, для этого нужно твердо помнить о том положении, которое было характерно для него в переходную эпоху от начального эллинизма ко II в. н. э., к тому, что обычно зовется во всех ходовых руководствах греческим возрождением, или второй софистикой. Кроме того, необходимо учитывать еще и то, что переходность эпохи Плутарха совсем не избавляет нас от необходимости находить для этой эпохи свою специфику. В истории только ведь и существуют одни переходные эпохи, все эпохи в истории — переходные. Если не искать точной формулировки для переходного периода, тогда придется вообще отказаться от истории как научно осмысленной дисциплины. Итак, в каком же направлении специфицируются для Плутарха такие две коренные стихии его творчества. как бытовизм и морализм? Этот вопрос есть вопрос о том, что такое есть греческое возрождение и что такое вторая софистика II в. н. э.
Сказать, что греческая литература этого времени отличалась подражательным характером, — это значит не сказать ничего. Даже сказать, что здесь реставрировалась греческая классика и что восстанавливались прославленные и давно минувшие литературные методы, — это тоже ничего не сказать. Если взять эту эпоху по ее существу, то специфика эта заключалась именно в отказе от буквального следования классическим образцам в их духовном существе. На очереди во II в. н. э. стояло превращение классики в чисто эстетическую предметность, погружение в бескорыстное и самодовлеющее созерцание ее когда-то бывших реальными форм, восторженное любование старинными художественными приемами без малейшего желания пользоваться ими реально-жизненно, пользоваться ими всерьез и на самом деле.
Было целое литературное направление, которое в самом прямом смысле было продуктом коллекционерства, ученого собирательства и архивного суммирования красот древности. Этим эстетическим любопытством к давно минувшей старине отличался и Павсаний с его «Описанием Греции», и Аполлодор или Антонин Либерал с их коллекционированием старинных мифов, и Диоген Лаэрций с его беспредметным любованием исчезнувшими формами философской мысли. Возникла целая прослойка риторов, которые составляли речи не для политических выступлений, не для философской проповеди, не для религиозной пропаганды, а просто ради словесного блеска, виртуозного владения старыми риторическими формами, но лишенными всякого жизненного содержания и превращенными в блестящую и виртуозную словесность, в артистическую декламацию и в пафос чисто моральной условности. Были писатели, как, например, два родственника — Филостраты, которые рисовали тончайшие словесные портреты никогда не существовавших героев, портреты сложнейше психологические и рассчитанные на остроту переживания, на изощренную моду художественных изысков.
Среди этих явлений литературы греческого возрождения стоит упомянуть еще роман, который вообще характерен для последних веков античной литературы и разные варианты которого стали появляться уже во II в. н. э. Дошедшие до нас греческие романы преследуют чисто эстетические цели в том смысле, что обычно бьют на интерес развертывания фабулы, на забавность и развлечение подробностями рассказа, на приключенчество и преодоление искусственно раздутых противоречий и на всякого рода неожиданности, граничащие с фантастической и сказочной тематикой. Все это делало новый жанр романа в первую очередь, несомненно, предметом самодовлеющего эстетического интереса, предметом увлечения самим ходом рассказа и внимания не к изображаемой жизни, но к самому процессу ее изображения. В знаменитом романе Лонга «Дафнис и Хлоя» дается острая психология, наивная, но по преимуществу своему весьма изысканная культура сексуальности, становящаяся предметом почти, можно сказать, какого-то декадентского смакования. Предметом изображения оказался здесь не самый секс, которого достаточно было и в классической литературе, но доставляемое им щекотание эстетических нервов.
Само собой разумеется, всем этим мы рисуем опять-таки только самый принцип греческого возрождения II в. н. э., а не всю эту литературу целиком. Вся эта возрожденческая греческая литература, взятая целиком, конечно, отличалась и всякими другими тенденциями. Несомненно, бывали случаи и существенных, причем весьма удачных попыток совмещать самодовлеющее любование с реально-жизненным использованием созерцаемого предмета. Дион Хризостом после долгих исканий все-таки пришел к такой ступени творчества, когда старательную изысканность стиля он пытался осуществлять для целей вполне жизненного морализма. Марк Аврелий был такой философ, который умел совмещать общеизвестный и никому не доступный стоический ригоризм с вполне мирным, вполне умиротворенным и спокойно-созерцательным, хотя в то же самое время и с принципиально-ценностным рассмотрением своей совести, вне всякой театральности и вне эстетически беспринципной игры, вне всякой моды. Целостное, интимно-жизненное отношение Лукиана к античной мифологии трудно распознать, и оно не лишено для нас загадок. Тем не менее юмористическое эстетство Лукиана в отношении древней античной мифологии не подлежит никакому сомнению, и это в нем — стихия возрожденческая, а не классическая.