Платон - Избранные диалоги
{D} Сократ. Значит, всякому ясно, что писать речи вовсе не постыдно само по себе.
Федр. А что же постыдно?
Сократ. А вот что, по-моему: говорить и писать не так, как следует, то есть постыдно и злонамеренно.
Федр. Это ясно.
Сократ. От чего же это зависит — писать хорошо или нехорошо? Надо ли нам, Федр, расспросить об этом Лисия или кого другого, кто когда-либо писал или будет писать хоть насчет общественных дел, хоть насчет частных, хоть в стихах, как поэт, хоть без размера, как любой из нас?
{E} Федр. Ты спрашиваешь, надо ли? Да для чего же, по правде говоря, и жить, если не ради таких наслаждений? Ведь не ради же тех наслаждений, которым должно предшествовать страдание, — иначе их и не почувствуешь, как это бывает чуть ли не со всем, что услаждает наше тело. Недаром такие наслаждения по справедливости и называют рабскими.
Сократ. Досуг у нас, правда, есть. К тому же цикады над нашей головой поют, разговаривают между собой, как это всегда бывает в самый знойный час, и, по-моему, на нас смотрят. {259} Они если увидят, что и мы, подобно людям из толпы, не ведем беседы в полдень, а по лености ума дремлем, убаюканные ими, то справедливо осмеют нас, думая, что это какие-то рабы пришли к ним в убежище и, словно овцы в полдень, спят у родника. Если же они увидят, что мы, беседуя, не поддаемся их очарованию и проплываем мимо них, словно мимо сирен,154 они, {B} в восхищении, уделят нам, пожалуй, тот почетный дар, который они получили от богов для раздачи людям.
Федр. Что же такое они получили? Я, кажется, и не слыхал об этом.
Сократ. Как можно, чтобы человек, любящий Муз, даже и не слыхал об этом! По преданию, цикады некогда были людьми, еще до рождения Муз. А когда родились Музы и появилось пение, {C} то удовольствие от него привело некоторых из тогдашних людей в такой восторг, что среди песен они забывали о пище и питье и в самозабвении умирали. От них и пошла порода цикад. И вот для чего: они получили в дар от Муз способность обходиться без пищи155 и, едва родившись, не едят и не пьют, а сразу начинают петь и поют, пока не умрут. Зато после смерти они идут к Музам известить их, кто из земных жителей какую из них почитает. Известив Терпсихору о тех, {D} кто почтил ее в хороводах, они помогают им снискать ее расположение; Эрато они извещают о тех, кто почтил ее в любовных песнях, и то же с остальными Музами, в зависимости от того, как подобает почитать каждую из них. Самую старшую из Муз — Каллиопу — и следующую за ней — Уранию — они извещают о людях, посвятивших свою жизнь философии и почитающих то, что подвластно этим Музам. Ведь среди Муз эти две больше всех причастны к познанию неба и к учениям обо всех делах божественных и человеческих, поэтому их голос всего прекраснее. Значит, по многим причинам нам с тобой надо беседовать, а не спать в полдень.
Федр. Ну что же, будем беседовать.
{E} Сократ. Итак, нам предстоит рассмотреть, как мы только что собрались сделать, от чего это зависит — говорить и писать хорошо или нехорошо.
Федр. Да, разумеется.
Сократ. Чтобы речь вышла хорошей и прекрасной, разве оратор не должен постичь мыслью истину о том предмете, о котором он собирается говорить?
{260} Федр. Об этом, милый Сократ, я так слышал: тому, кто собирается стать оратором, нет необходимости понимать, что по своему существу справедливо — достаточно знать то, что кажется справедливым толпе, которая будет судить, — либо что подлинно хорошо или прекрасно — достаточно знать то, что таким представляется. Только это — а не истина — и делает речь убедительней.
Сократ. «Мысль не презренная»,156 Федр, раз так говорят люди умные,157 но все же надо посмотреть, есть ли в ней смысл. Поэтому и то, что ты сейчас сказал, нельзя оставить без внимания.
Федр. Ты прав.
Сократ. Рассмотрим ее следующим образом.
Федр. Каким?
{B} Сократ. Скажем, я убеждал бы тебя приобрести коня, чтобы сражаться с неприятелем, причем мы с тобой оба не имели бы понятия, что такое конь, да и о тебе я знал бы только то, что Федр считает конем ручное животное с большими ушами.
Федр. Это было бы смешно, Сократ.
Сократ. Это-то не смешно, но вот если бы я, чтобы всерьез тебя убедить, сочинил бы похвальное слово ослу, называя его конем и утверждая, что не только дома, но и в походе стоит завести эту скотинку, потому что на ней удобно и сражаться и подвозить кладь, {C} да и на многое другое она годится…
Федр. Это было бы совсем уж смешно!
Сократ. А разве не лучше то, что смешно да мило, чем то, что страшно и враждебно?
Федр. Ясное дело, лучше.
Сократ. Так вот, если оратор, не знающий, что такое добро, а что зло, выступит перед такими же несведущими гражданами, стремясь их убедить, причем расхваливать он будет не тень осла,158 выдавая его за коня, но зло, выдавая его за добро, и если он, учтя мнение толпы, убедит ее сделать что-нибудь плохое вместо хорошего, {D} как по-твоему, какие плоды принесет впоследствии посев его красноречия?
Федр. Не очень-то подходящие.
Сократ. Впрочем, друг мой, не слишком ли резко нападаем мы на искусство красноречия? Оно, пожалуй, возразило бы нам: «Что за вздор вы несете, странные вы люди! Никого, кто не знает истины, я не принуждаю учиться говорить, напротив — если мой совет что-нибудь значит, — пусть лишь обладающий истиной приступает затем ко мне. Я притязаю вот на что: даже знающий истину не найдет помимо меня средства искусно убеждать».
{E} Федр. Разве оно не было бы право, говоря так?
Сократ. Согласен, если подходящие к нему доводы подтвердят, что оно является искусством. Мне сдается, будто я слышу, как некоторые из этих доводов приближаются сюда и свидетельствуют, что красноречие — не искусство, а далекий от искусства навык. Подлинного искусства речи, говорит лаконец,159 нельзя достигнуть, не познав истины, да и впредь будет невозможно.
{261} Федр. Значит, нужны эти доводы, Сократ. Приведи их сюда и допроси: что и как они скажут нам.
Сократ. Придите же сюда, благородные создания, и убедите Федра с его прекрасными детищами, что он, если не будет достаточно искушен в философии, никогда не сможет и как следует говорить о чем бы то ни было. Пусть Федр отвечает вам.
Федр. Спрашивайте.
Сократ. Искусство красноречия не есть ли вообще некое умение увлечь души словами, причем не только на суде или на других общественных собраниях, но и в частной жизни, — {B} идет ли дело о мелочах или о больших делах, оно все то же, и, к чему бы правильно его ни применять — к важным делам или не важным, — оно от этого не становится ни более, ни менее ценным. Или ты слышал об этом что-нибудь другое?
Федр. Клянусь Зевсом, не совсем то. Говорят и пишут искусно прежде всего для судебных дел или же для выступлений в народном собрании. А о большем я не слыхал.
Сократ. Значит, ты слышал только о тех наставлениях в красноречии, которые писали под Илионом Нестор и Одиссей, чтобы занять свой досуг, {C} а о наставлении Паламеда ты не слыхал?
Федр. Да я, клянусь Зевсом, и о наставлениях Нестора не слыхал, если только под Нестором ты как-то не подразумеваешь Горгия, а под Одиссеем какого-нибудь Фрасимаха и Феодора.160
Сократ. Может быть. Но оставим их. Скажи мне, на суде что делают тяжущиеся стороны? Не спорят ли они, или мы назовем это как-нибудь иначе?
Федр. Да нет, именно так.
Сократ. О том, что справедливо, а что несправедливо?
Федр. Да.
Сократ. И тот, кто это делает искусно, сумеет представить одно и то же дело одним и тем же слушателям то справедливым, {D} то, если захочет, несправедливым?
Федр. Ну и что же?
Сократ. И в народном собрании одно и то же покажется гражданам иногда хорошим, а иногда наоборот.
Федр. Это так.
Сократ. Разве мы не знаем: элеат Паламед161 говорит так искусно, что слушателям одно и то же представляется и сходным и несходным, и единым и множественным, и покоящимся и несущимся?
Федр. Да, конечно.
Сократ. Следовательно, словопрение применяется не только на суде {E} и в народном собрании: по-видимому, это единое искусство — если уж оно искусство, — одинаково применимое ко всему, о чем бы ни шла речь; при его помощи любой сумеет уподобить все, что только можно, всему, чему только можно, — и вывести на свет другого, если тот начнет прибегать к туманным уподоблениям.
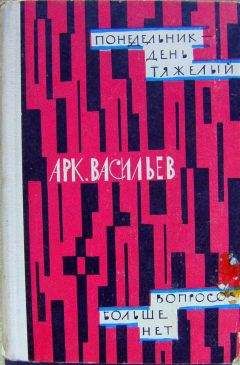


![Тяжелый дождь - [Тяжелый дождь]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)