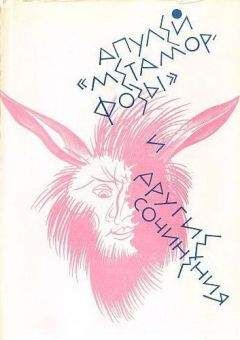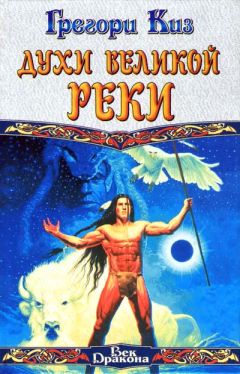Луций Апулей - Метаморфозы, или Золотой осел
7. Благоразумное мнение одержало верх, и сейчас же было отдано приказание глашатаю, чтобы он созывал сенаторов в курию.[242] Когда они по чину и по обычаю без промедления заняли свои места, снова раздается зов глашатая, и первым выступает обвинитель. Только тут вызвали и ввели обвиняемого, и, по закону Аттики и Марсова судилища,[243] глашатай объявляет защитникам, чтобы они воздержались от вступлений и не взывали к милосердию. О том, как это все происходило, я узнал из многочисленных разговоров, которые вели между собою люди. Но в каких выражениях нападал обвинитель, что говорил в свое оправдание обвиняемый и вообще каковы были прения сторон, я и сам сведений не имею, так как там не присутствовал, а стоял в стойле, и вам докладывать о том, чего не знаю, не могу; что мне доподлинно известно, то и записываю сюда. После того, как кончилось судоговорение, было решено, что справедливость обвинения должна быть подтверждена надежными доказательствами и что недопустимо основывать решение такой важности на одних подозрениях: поэтому надлежит во что бы то ни стало вызвать главного свидетеля, того раба, который, по-видимому, один только и знает, как все происходило. Висельник этот нисколько не был смущен ни сомнениями в исходе такого крупного дела, ни видом сената в полном составе, ни хотя бы упреками нечистой совести, а начал плести свои выдумки, будто чистую правду. По его словам, его позвал к себе молодой человек, возмущенный неприступностью своей мачехи, и, чтобы отомстить за оскорбление, поручил ему убить ее сына, обещая щедро заплатить за молчание, а в случае отказа грозил смертью; что юноша передал ему собственноручно приготовленную отраву, но затем взял обратно, боясь, как бы он, не исполнив поручения, не сохранил кубок как вещественное доказательство, и сам потом дал яд мальчику. Все, что с притворной дрожью говорил этот негодяй, было удивительно похоже на истину, и после его показаний судебное разбирательство окончилось.
8. Не было никого из декурионов, кто продолжал бы относиться благожелательно к молодому человеку; было очевидно, что в преступлении он уличен и приговор ему один: быть зашитым в мешок.[244] Уже сенаторам предстояло по стародавнему обычаю опустить в бронзовую урну свои решения — все одинаковые, так как каждый написал одно и то же;[245] а раз голоса собраны, участь подсудимого решена, ничего нельзя уже изменить, и власть над его жизнью передается в руки палача. Вдруг один из старейших сенаторов, врач, человек испытанной честности, пользующийся большим влиянием, закрыл рукою отверстие урны, чтобы кто опрометчиво не подал своего мнения, и обратился к сенату с такой речью:
— Гордый тем, что в течение всей своей жизни я снискивал ваше одобрение, я не могу допустить, чтобы, осудив оклеветанного подсудимого, мы совершили явное убийство и чтобы вы, связанные клятвой судить справедливо, будучи введены в обман лживым рабом, оказались клятвопреступниками. И сам я, произнеся суждение заведомо ошибочное, попрал бы свое уважение к богам и погрешил бы против моей совести. Итак, узнайте от меня, как было дело.
9. Не так давно этот мерзавец пришел ко мне, чтобы купить сильнодействующего яду, и предлагал мне плату в сто полновесных золотых; объяснял он, что яд нужен для какого-то больного, изнемогающего от тяжелой и неисцелимой болезни, который хочет избавиться от мучительного существования. Болтовня этого негодяя и нескладные объяснения внушили мне подозрения, и, в полной уверенности, что замышляется какое-то преступление, я дать-то отраву дал, но, предвидя в будущем возможность допроса, предлагаемую плату не тотчас принял, а так ему сказал:
— Чтобы среди тех золотых, которые ты мне предлагаешь, не оказалось случайно негодных или фальшивых, положи их в этот мешочек и запечатай своим перстнем, а завтра мы их проверим в присутствии какого-нибудь менялы. Он согласился и запечатал деньги. Как только его привели в суд, я немедленно послал одного из своих слуг на лошади к себе домой за этими деньгами. Теперь их принесли, и я могу представить их вашему вниманию. Пусть он посмотрит и признает свою печать. В самом деле, каким образом можно приписывать брату приготовление отравы, которую покупал этот подлый раб?
10. Тут на негодяя этого нападает немалый трепет, естественный цвет лица сменяется смертельной бледностью, по всему телу выступает холодный пот, то нерешительно переступает он с ноги на ногу, то затылок, то лоб почешет, сквозь зубы бормочет какие-то непонятные слова, так что ни у кого не могло оставаться сомнения, что он причастен к преступлению; но скоро снова хитрость в нем заговорила, и он принялся упорно от всего отпираться и уверять, что показания врача ложны. Тот, видя, как попирается достоинство правосудия, да и собственная его честность всенародно пятнается, с удвоенным усердием стал опровергать мерзавца, пока наконец, по приказу властей, служители, осмотрев руки негоднейшего раба и отобрав у него железный перстень, не сличили его с печаткой на мешочке; и это сравнение укрепило прежнее подозрение. Не избежал он, по греческим обычаям, ни колеса, ни дыбы,[246] но, вооружившись небывалым упорством, выдержал все удары и даже пытку огнем.
11. Тогда врач:
— Не допущу, — говорит, — клянусь Геркулесом, не допущу, чтобы, вопреки божеским установлениям, вы подвергли наказанию этого не повинного ни в чем юношу, как и того, чтобы раб, издевавшийся над нашим судопроизводством, избегнул кары за свое гнусное преступление. Сейчас я очевидное доказательство представлю вам по поводу настоящего дела. Когда этот подлец старался купить у меня смертельного яда, я считал, что несовместимо с правилами моей профессии причинять кому бы то ни было гибель, так как твердо знаю, что медицина призвана спасать людей, а не губить их; но, боясь, в случае если я не соглашусь исполнить его просьбу, как бы несвоевременным этим отказом я не открыл путь преступлению, как бы кто другой не продал ему смертоносного напитка или сам он не прибег бы в конце концов к мечу или к любому другому орудию для довершения задуманного злодеяния, дать-то я дал ему снадобье, но снотворное, мандрагору,[247] знаменитую своими наркотическими свойствами и вызывающую глубокий сон, подобный смерти. Нет ничего удивительного в том, что, доведенный до пределов отчаяния разбойник этот выдерживает пытки, которые представляются ему более легкими, чем неизбежная казнь, по обычаю предков ему угрожающая. Но если только мальчик выпил напиток, приготовленный моими руками, он жив, отдыхает, спит и скоро, стряхнув томное оцепенение, вернется к свету белому. Если же он погиб, если унесен смертью, причины его гибели вам следует искать в другом месте.
12. Всем эта речь старца показалась очень убедительной, и тут же с великой поспешностью отправляются к усыпальнице, где положено было тело отрока; не было ни одного человека из сенаторов, ни одного из знати, ни одного даже из простого народа, кто с любопытством не устремился бы к тому месту. Вот отец собственноручно открывает крышку гроба как раз в ту минуту, когда сын, стряхнув с себя смертельное оцепенение, возвращается из царства мертвых; крепко обнимая мальчика и не находя слов, достойных такой радости, отец выводит его к согражданам. Как был отрок еще увит и обмотан погребальными пеленами, так и несут его в судилище. Преступление гнуснейшего раба и еще более гнусной женщины было ясно изобличено, истина во всей наготе своей предстает, и мачеху осуждают на вечное изгнание, а раба пригвождают к кресту. Деньги же по единодушному решению остаются у доброго врача (как плата за столь уместное снотворное снадобье. Такой-то конец обрела эта знаменитая, чудесная история старика, который в малый промежуток времени, чуть ли даже не в один краткий миг, испытав опасность остаться бездетным, неожиданно оказался отцом двух юношей.
13. А меня меж тем вот как бросали волны судьбы. Солдат тот, что, не спросив продавца, меня купил и без всякой платы присвоил, по приказу своего трибуна, исполняя долг службы, должен был отвезти письма к важному начальнику в Рим и продал меня за одиннадцать денариев соседям, каким-то двум братьям, находившимся в рабстве у очень богатого господина. Один из них был кондитером, выпекавшим хлеб разных сортов и печенья на меду; другой — поваром, тушившим сочные мясные блюда с необыкновенно вкусными приправами. Жили они вместе, вели общее хозяйство, а меня предназначали для перевозки огромного количества посуды, которая по разным причинам была необходима их хозяину в его многочисленных путешествиях. Так что я вступил третьим в товарищество к этим двум братьям, и никогда до сих пор не была ко мне судьба так благосклонна. Хозяева мои имели обыкновение каждый вечер приносить в свою каморку множество всяких остатков от обильных и роскошно устроенных пиршеств; один приносил огромные куски свинины, курятины, рыбы и других всевозможных кушаний того же рода; другой — хлеб, пирожки, блинчики, булочки, печенье и множество сладостей на меду. Заперев свое помещение, они отправлялись в баню освежиться, а я досыта наедался свалившимися с неба яствами, потому что я не был так уж глуп и не такой осел на самом деле, чтобы, не притронувшись к этим лакомствам, ужинать колючим сеном.