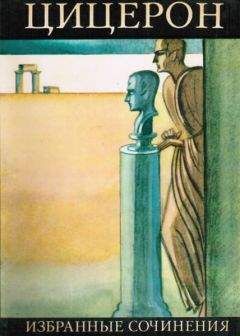Арбитр Петроний - Сатирикон
— Да? — сказала Квартилла. — Она, должно быть, сейчас моложе, чем я была в то время, когда впервые отдалась мужчине? Да прогневается на меня моя Юнона, если я хоть когда-нибудь помню себя девушкой. В детстве я путалась с ровесниками, потом пошли юноши постарше, и так до сей поры. Отсюда, вероятно, и пошла пословица: «Кто снесет теленка, снесет и быка».
Боясь, как бы без меня с братцем не обошлись еще хуже, я присоединился к свадьбе.
XXVI.Уже Психея окутала голову девочки венчальной фатой; уже кинэд нес впереди факел; пьяные женщины, рукоплеща, составили процессию и постлали ложе покрывалом. Возбужденная этой сладострастной игрой, сама Квартилла встала и, схватив Гитона, потащила его в спальню. Без сомнения, мальчик не сопротивлялся, да и девчонка вовсе не была испугана словом «свадьба». Пока они лежали за запертыми дверьми, мы уселись на пороге спальни, впереди всех Квартилла, со сладострастным любопытством следившая через бесстыдно проделанную щелку за ребячьей забавой. Дабы и я мог полюбоваться тем же зрелищем, она осторожно привлекла меня к себе, обняв за шею, а так как в этом положении щеки наши почти соприкасались, то она время от времени поворачивала ко мне голову и как бы украдкой целовала меня.
…и остальную часть ночи спокойно проспали в своих кроватях.
Настал третий день, день долгожданного свободного пира у Трималхиона; но нам, раненым, измученным, более улыбалось бегство, чем покойное житье…
Итак, мы мрачно раздумывали, как бы нам отвратить надвигавшуюся грозу, как вдруг один из рабов Агамемнона испугал нас окриком:
— Как, — говорил он, — разве вы не знаете, у кого сегодня пируют? У Трималхиона, изящнейшего из смертных; в триклинии у него стоят часы, и (к ним) приставлен особый трубач, возвещающий, сколько мгновений жизни он потерял.
Мы, позабыв все невзгоды, тщательно оделись и велели Гитону, охотно согласившемуся выдать себя за нашего раба, следовать за нами в бани.
XXVII.Мы принялись одетые разгуливать по баням просто так, для своего удовольствия, и подходить к кружкам играющих, как вдруг увидели лысого старика в красной тунике, игравшего в мяч с кудрявыми мальчиками. Нас привлекли к этому зрелищу не столько мальчики, — хотя и у них было на что посмотреть, — сколько сам почтенный муж, игравший в сандалиях зелеными мячами: мяч, коснувшийся земли, в игре более не употреблялся, а свой запас игроки пополняли из корзины, которую держал раб. Мы приметили одно нововведение. По обеим сторонам круга стояли два евнуха: один из них держал серебряный горшок, другой считал мячи, но не те, которыми во время игры перебрасывались из рук в руки, а те, что падали наземь. Пока мы удивлялись этим роскошествам, к нам подбежал Менелай.
— Вот тот, в чьем доме сегодня предстоит нам возлежать за обедом! Это как бы прелюдия пира.
Во время речи Менелая Трималхион прищелкнул пальцами. Один из евнухов по сему знаку подал ему горшок. Удовлетворив свою надобность, Трималхион потребовал воды на руки и свои слегка обрызганные пальцы вытер о волосы одного из мальчиков.
XXVIII.Долго было бы рассказывать все подробности. Словом, мы отправились в баню и, вспотев, поскорее перешли в холодное отделение. Там умащали Трималхиона, причем терли его не полотном, но лоскутком мягчайшей шерсти. Три массажиста пили в его присутствии фалерн: когда они, поссорившись, пролили много вина, Трималхион назвал это свиной здравицей. Затем, надев ярко-алую байковую тунику, он возлег на носилки и (двинулся в путь), предшествуемый четырьмя медно-украшенными скороходами и ручной тележкой, в которой ехал его любимчик: старообразный, подслеповатый мальчик, еще более уродливый, чем его хозяин Трималхион. Пока его несли, над его головой, словно желая что-то шепнуть на ушко, все время склонялся музыкант, всю дорогу игравший на крошечной флейте… Мы, весьма удивленные виденным, следовали за ним и вместе с Агамемноном пришли к дверям, на которых висело объявление, гласившее:
ЕСЛИ РАБ БЕЗ ПРИКАЗАНИЯ ГОСПОДСКОГО ВЫЙДЕТ ЗА ВОРОТА, ТО ПОЛУЧИТ СТО УДАРОВ
У самого входа стоял привратник в зеленом платье, подпоясанный (ярко) вишневым поясом, и чистил на серебряном блюде горох. Над порогом висела золотая клетка, из коей пестрая сорока приветствовала входящих.
XXIX.(Об этот порог) я, впрочем, чуть не переломал себе ноги, пока, задрав голову, рассматривал все (диковинки). По левую руку, недалеко от каморки привратника, была нарисована на стене огромная цепная собака, а над нею большими квадратными буквами написано:
БЕРЕГИСЬ СОБАКИ
Товарищи меня обхохотали. Я же, оправившись от падения, не поленился пройти вдоль всей стены. На ней был нарисован невольничий рынок с вывесками, и сам Трималхион, еще кудрявый, с кадуцеем в руках, ведомый Минервой, (торжественно) вступал в Рим. Все передал своей кистью добросовестный художник и объяснил надписями: и как Трималхион учился счетоводству, и как сделался рабом-казначеем. В конце портика Меркурий, подняв Трималхиона за подбородок, возносил его на высокую эстраду. Тут же была и Фортуна с рогом изобилия, и три Парки, прядущие золотую нить. Заметил я в портике и целый отряд скороходов, обучающихся под наблюдением наставника. Кроме того, увидел я в углу большой шкаф, в нише которого стояли серебряные Лары, мраморное изображение Венеры и довольно большая, засмоленная золотая шкатулка, где, как говорили, хранилась первая борода самого хозяина. Я расспросил привратника, что изображает живопись внутри дома.
— Илиаду и Одиссею, — ответил он, — и бой гладиаторов, устроенный Лэнатом.
XXX.Но некогда было все разглядывать. Мы уже достигли триклиния, в передней половине которого домоправитель проверял отчетность. Но что особенно поразило меня в этом триклинии — так это пригвожденные к дверям ликторские связки с топорами, оканчивавшиеся внизу бронзовыми подобиями корабельного носа; а на носу была надпись:
Г. ПОМПЕЮ ТРИМАЛХИОНУ — СЕВИРУ АВГУСТАЛОВ — КИННАМ — КАЗНАЧЕЙ
Надпись освещалась спускавшимся с потолка двурогим светильником, а по бокам ее были прибиты две дощечки: на одной из них, помнится, имелась нижеследующая надпись:
IIIЯНВАРСКИХ КАЛЕНД И НАКАНУНЕ НАШ ГАЙ ОБЕДАЕТ ВНЕ ДОМА
На другой же были изображены фазы луны и ход семи светил и равным образом показывалось, посредством разноцветных шариков, какие дни счастливые и какие несчастные. Достаточно налюбовавшись этим великолепием, мы хотели войти в триклиний, как вдруг мальчик, специально назначенный для этого, крикнул нам:
— Правой ногой!
Мы, конечно, несколько смутились, опасаясь, как бы кто-нибудь из нас не нарушил обычая. Наконец, когда все разом мы занесли правую ногу над порогом, неожиданно бросился к ногам нашим уже раздетый для бичевания раб и стал умолять избавить его от казни: не велика вина, за которую его преследуют: он забыл в бане одежду домоуправителя, стоящую не больше десяти сестерциев. Мы отнесли правые ноги обратно за порог и стали просить домоуправителя, пересчитывавшего в триклинии червонцы, простить раба. Он гордо приосанился и сказал:
— Не потеря меня рассердила, но ротозейство этого негодного холопа. Он потерял пиршественную одежду, подаренную мне в день моего рождения одним из клиентов. Была она, конечно, тирийского пурпура, но уже однажды мытая. Все равно! ради вас прощаю.
XXXI.Едва мы, побежденные таким великодушием, вошли в триклиний, раб, за которого мы просили, подбежал к нам и осыпал нас, просто не знавших куда деваться от конфуза, целым градом поцелуев, благодаря за милосердие.
— О, — говорил он, — вы скоро узнаете, кого облагодетельствовали. Господское вино — признательность раба…
Когда наконец мы возлегли, александрийские мальчики облили нам руки ледяной водой; за ними последовали другие, омывшие наши ноги и старательно остригшие ногти. Причем каждый занимался своим делом не молча, но распевая громкие песни. Я пожелал испробовать, вся ли челядь состоит из поющих? Попросил пить: услужливый мальчик исполнил мою просьбу с тем же завыванием, и так — все, что бы у кого ни попросили.
Пантомима с хорами какая-то, а не триклиний почтенного дома!
Между тем подали совсем невредную закуску: все возлегли на ложа, исключая только самого Трималхиона, которому, по новой моде, оставили высшее место за столом. Посредине закусочного стола находился ослик коринфской бронзы с тюками на спине, в которых лежали с одной стороны черные, с другой — белые оливки. Над ослом возвышались два серебряных блюда, по краям которых были выгравированы имя Трималхиона и вес серебра, а на припаянных к ним перекладинах лежали (жареные) сони, обрызганные маком и медом. Были тут также и кипящие колбаски на серебряной жаровне, а под сковородкой сирийские сливы и гранатовые зерна.