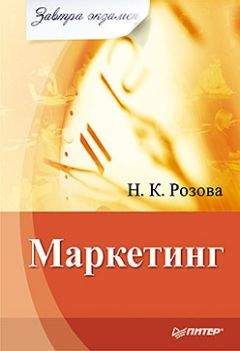Евгений Марков - Очерки Крыма
Но, со всем тем, кипарис удивительно как хорош в том пейзаже, о котором я говорю и которым я неутомимо наслаждаюсь с балкона моего дома. Хорошо потому, что кстати; он особенно вразумительно говорит моей пустыне, что она пустыня… Он особенно резко выделяет веселую зелень плода, дающего веселье; эти юношески-свежие, кудрявые и хмельные виноградники, которые буйными толпами растут и теснятся кругом — беззаботное подрастающее поколение вокруг мертвецов.
С балкона моего, широкого, огороженного сквозною решеткою в восточном вкусе, обставленного изнутри тепличными растениями и цветами, снаружи ветками дерев, переросших дом, видна как в рамке широкая картина моря и крутой долины, к нему спадающей с гор… Море очень удивляет, очень страшит, когда его видишь в первый раз. Но оно все-таки кажется хуже, чем ждешь. Оно меньше и проще фантазии. Оно более похоже на то, то мы уже знаем, чем бы хотелось нам. По крайней мере, море без особенной обстановки. Но когда живешь с морем глаз на глаз, как живу теперь я, когда пьешь свой чай с морем, обедаешь с морем, с морем мечтаешь, с морем засыпаешь, — потому что оно вот тут перед вами всякую минуту, с балкона, из окна вашей комнаты, из аллеи сада, — о, тогда вы, конечно, влюбитесь в море, влюбитесь просто как в женщину. Вас будет манить к морю, вам будет скучно без него, с ним вам будет так хорошо, вам станет казаться, что нет возможности жить не на море, что не на море душно и мертво; что несчастные живут далеко от моря. Когда море дышит на вас своим освежающим, всемирно-широким дыханием, когда оно укачивает вашу мысль — этого болезненно-капризного, беспокойного и бессильного ребенка — ритмом своего прибоя и могучим однообразием своей бесконечной пучины, — тогда вы покойны и довольны, как бывали довольны в старые годы, на добрых коленях, вас нянчивших.
Вы инстинктивно чувствуете, как чувствовали тогда, что не о чем хлопотать, что вами владеет сила сильнее вашей, которая, все равно, понесет вас, куда она знает и как она знает.
Ребенку так хочется быть большим, так нетерпеливо жаждется самостоятельности.
Но большому, взамен, так хочется расстаться со своею волею и своим долгом, отдаться кому-нибудь в материнские руки — неси, куда хочешь, и как хочешь, только с ними с нас бремя мысли и желаний и убаюкай нас!
И море снимает это бремя, и убаюкивает… По крайней мере, мое тихое южное море.
Последние кипарисы, там глубоко внизу, вырезаются на голубой волне. Красивы и дики серые камни, рассыпанные по долине и взморью, и по скатам гор.
Точно окаменевшие стада титанов, когда-то обитавших землю.
Настоящие стада кажутся мушками между этими каменными овечками. Не пройдет, не проедет никто. На далеком синем море не видно паруса или мачты… Только в винограднике, и то редко-редко вырежется на зелени белая фигура верхового татарина, пробирающегося горною тропинкою в ближайшее селение. Так же редко проскрипит внизу, по песчаной приморской окраине, длинная мажара с сеном или дровами… Долго тянется она перед вашими глазами, сначала увязая в песок, потом, едва тащась на каменную гору, и вы вволю наслушаетесь отрывистых возгласов погонщика-татарина и жесткого визга колес; черные буйволы, коренастые и жилистые, словно нарочно созданные для татарских мажар и для крымских гор, с угрюмым терпением, медленно и тяжко, шаг за шагом возносят на мощных шеях своих громадный воз на такую высоту и по такой дороге, которые только для них и существовать могут…
Проедут, скроются в лес, еще раз покажутся совсем с колесами на голой макушке горы, и перевалят за нее, чтобы не показаться больше. Другой не скоро дождетесь… Иногда увидите, пожалуй, и парус; но это так далеко и так нечасто, и зато как кажется живописно! В большой штиль, случается, стоят пять-шесть белых неподвижных лоскутов на голубом горизонте. Простоят иногда дня два, утром приходите искать их, и находите опять одну и ту же бесконечную голубую пучину, как и всегда. Но вместо кораблей видны зато горы.
Эти горы так же бессменно перед вами, как и море. Это северо-восточный рог полукруглого залива, в котором приютились Алушта, Судак и много других мест. Кажется взял бы да и поплыл себе вразмашку прямо к тому гористому мысу; а до него, говорят, верст 50 по прямой линии, по берегу же до 70 верст. Так обманывается на безбрежной равнине моря обычный глазомер человека. По горам легче узнавать час дня и погоду, чем по морю. Голубые и розовые, дымно-серые и золотистые тона то вспыхивают, то потухают на них. Иногда они густо-синим, довольно грозным хребтом загораживают восходящее солнце. Тогда они кажутся ближе и выше. Но в знойный полдень они почти совсем тают и расплываются в горячем тумане; они уходят тогда Бог знает как далеко, и только бледный, перламутровый рисунок их, тонкий и прозрачный, как облачко, воздушною тенью стоит на горизонте…
Я смотрел на восходы и закаты, на знойные полдни, на лунные и звездные ночи, и всем наслаждался так тихо и глубоко, как будто бы это наслаждение было молитвою. Это, может быть, и есть настоящая молитва, ее нельзя понимать в одном ее деловом, прикладном смысле. Где искреннее умиление, там и молитва. Так, может быть, молились мудрецы древности, безмолвно беседовавшие с природою о ее великих тайнах, на берегах теплых голубых морей, под вечно-голубым небом. Так молились, далеко прежде изобретения молитвенных формул, ветхозаветные пастухи, окруженные своими стадами и чадами своих чад…
Вечер опускается с гор тихо и плавно. Лесные долины, с которых разом сбежал золотой отблеск, будто чья-то рука смахнула его вверх, ярко и холодно зазеленели; а на Чатыр-даге, на Бабугане, на Кастели еще дымятся ползучие золотые косяки… Тишина та же, что и утром, и в полдень, и в глубокую ночь, — тишина пустыни. Только морской прибой перекатывает голыши по голышам, словно свинцовую дробь. Но в этот немолчный шорох так втягиваешься, что, наконец, перестанешь замечать его…
Что-то черное, большое, вдруг вынырнуло из глубины и, перекатившись, опять исчезло… Не успел глаз одуматься, опять взвился из воды как будто край черного колеса с кулаками, прокатился под водой, опять вынырнул, опять исчез, и опять, опять… Шагах в десяти от него появилось новое, черное колесо с теми же кулаками, и покатилось туда же, исчезая и вылезая… Это дельфины начали свою вечернюю охоту. Они не умеют плыть прямо и ровно, или, по крайней мере, не хотят. Они, как охотники и разбойники по призванию, исполняют свое ремесло с аристократическим ухарством. Весело смотреть, какими дерзкими скачками взмывают они дугою снизу вверх и сверху вниз, отчаянно гоняясь за убегающею рыбою; увлеченные удалою погонею, они часть теряют власть над своими движениями, и иногда случается, что дельфин, совершенно выскочив из воды, опишет свою дугу в воздухе на ваших глазах. Когда же их соберется много, и они плывут друг за другом, показывая только изгибы спин с плавниками, — кажется, будто под водою быстро работают какие-то мельницы…
Дельфины едва не единственные животные моего моря. Хотя много пишут о наполнении водных бездн существами всякого рода и о бесчисленном множестве птиц, обитающих берега Черного моря, однако я с большим сожалением убедился, что на нашем и в нашем деревенском пруде в десять раз больше зверей, птиц и гадов, чем на крымских берегах Черного моря. Изредка залетит белая рыбалка, покружится, погарцует над бездною, клюнет раза два соленую воду и полетит себе обратно, откуда пришла. Должно быть, ничто не манит птицу сюда на каменные скалы и на голыши, которыми трудно заменить камышовые заросли наших рек. Утки также иногда спускаются сюда на море, но как-то тайком, втихомолку, и вертятся где-нибудь на середине, сами не свои. Весь их вид какой-то испуганный… Летят, не смея отделиться на пол-аршина от воды, даже врезая ее крыльями, и так торопливо, не раздумывая и никогда не сворачивая. Совсем узнать нельзя полета наших старых сухопутных знакомцев; видно, безбрежная пучина действует не на одну фантазию человека: видно, и у птиц не без фантазии… Напрасно ищу я также ракушек, раков и всякой подобной твари между камней и в песке поморья… Голыши, круглые и обточенные, как на фабрике, насыпанные глубокими грудами, в которых утопает нога, — вот все, что вы найдете на берегу… В свете нет такой громадной и такой деятельной гранильной фабрики, как волны моря. Они день и ночь без отдыха грызут и обмалывают куски скал, ими же оторванные, и каждым прибоем подсыпают в свои несчетные склады нового товару.
Поразительно это стремление всего в природе к округлению: от земного шара и кажущегося небесного свода до яйца, плода, водной капли и этого голыша…
В тихое жаркое утро стоишь по пояс в воде и не вышел бы из нее долго… И смотришь в глубь, прозрачную как воздух, на расстилающийся под ногами яркий мозаиковый пол из "камений самоцветных", который гнется и колышется вместе с водою, и в котором ясно, как под свежим лаком, рисуется каждый камешек. Пол сказочного великолепия, но в то же время полный коварства. Он зовет к себе доверчивую ногу соблазнительно как русалка, его обитательница. Но берегитесь ступать необдуманно на эти узорчатые мраморы… Они вовсе не так близки, как кажутся, и если вы не пловец, то, раз ступивши на них, вряд ли с ними расстанетесь.