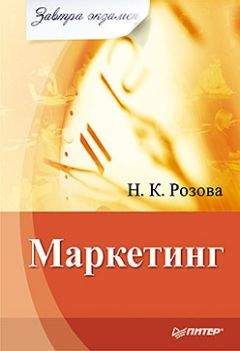Евгений Марков - Очерки Крыма
Я собирался ночью же уехать в Севастополь, и потому гнал лошадь, как мог, не отвечая на монотонные: "ахшам хайрес!",[22] встречавшее меня на каждом шагу.
В Бахчисарае меня задержали, однако, часа два. Опять моя несчастная коляска ковыляла по невообразимой бахчисарайской мостовой, едва не задевая концами осей за великолепные магазины, украшавшие улицу. Все было уже заперто, и затхлая, неподвижная атмосфера восточной жизни, казалось, механически лежала над этими бедными и тесными домиками, из которых угрюмое невежество и деспотизм изгнали самые благородные потребности человека и самые законные его наслаждения… Тускло и скучно светились кой-где сальные свечки, и никакого движения и звука не слыхать было на улицах. Раз только встретился мне сытый, старый татарин в бараньей шапке и с фонарем в руках, за которым шла закутанная, как мумия, в белую чадру, высокая женщина; может быть, такая же противная старуха, а может быть какая-нибудь Зюльнара, стройная как пальма. Зато месяц светил великолепно, и вид на спящий город, с его минаретами, тополями и глубокими переулками, был неописан… Я много раз вставал на ноги в своей коляске и глядел назад, не в силах будучи наглядеться. Восток, самый чистейший, Восток Дамасков и Алеппо, расстилался кругом меня в этом обаятельном сиянии… На шоссе меня скоро закачало, и я заснул.
V. Тени Малахова кургана
Вид Севастопольского разрушения. — Матрос-чичероне. — Посещение поля битвы.
Севастополь вышел таким, как я его совершенно себе не представлял. Мы в России не имеем ничего похожего на Севастополь, и русского в нем ничего, кроме флага. Это не столица, не губернский город, и даже не уездный, а между тем он приличен, как сама столица. Это юноша девятнадцатого века, одетый совершенно по-европейски. В нем все хорошо, ему нечего прятать в закоулках и задворьях. Мне показалось, в нем нет ни одного деревянного домика, ни одного дощатого забора; все или пре красные большие дома из инкерманского камня, не нуждающегося в штукатурке, или небольшие чистенькие домики с черепичными кровлями, тоже каменные. Улицы широкие, хорошо мощеные, прямые и правильно разбитые, церквей мало, но какие есть, те изящны.
По улицам деревья, во дворах сады; сады эти — персик, миндаль, черешня; они цветут так нежно и благоуханно, что приезжают лечиться их запахом и видом. Но самое европейское в этом европейском городе — это море. Хотя Россия бесспорно обладает многими морями, исчисленными в географии Ободовского, но я все-таки почему-то не считаю моря русским элементом. Ничего русский не сделал на море, и почти не живет на море; по его берегам или финны, или немцы, или греки с татарами, или киргизы с трухменцами; только и есть наши, что на мерзлых морях, да и то пополам с самоедом и лопарем. Поэтому море делает Севастополь каким-то не русским городом, как оно делает, например, Петербург. Истый русский город должен быть на Оке, на Волге, на Угре, где пахнет рыбою и ползут по целым месяцам неуклюжие, как черепахи, баржи, на бечевах, на шестах, на всем, на чем езда особенно неудобна. Пароход — уже есть в известном смысле какое-то отрицание Руси. Там уже и прислуга, и начальство смотрят на по-русски, а по-заграничному; приход и отход быстры и точны, ездят прилично, паспортов не требуют.
Море в Севастополе, я уверен, единственное не в одной России. Тут вместе красота, удобство и здоровье. Море врезывается прекрасною глубокою бухтою верст на пять в середину земли, раздвигая такие же прекрасные известковые холмы; в России мы считали бы их высокими горами. Эта широкая главная бухта бросает от себя в стороны несколько побочных бухт, из которых одна, — Южная бухта, — есть средоточие города. В ней просторная и безопасная стоянка кораблям. С одной стороны Южной бухты поднимается амфитеатром весь город, с другой находится множество важных сооружений морского ведомства, знаменитые доки, госпитали, казармы и разные мастерские адмиралтейства; все это вместе составляет особый город. Дальше за доками Корабельная Слободка,[23] примыкающая к славной памяти Малахову Кургану.[24] Северная Сторона[25] лежит через главную бухту.
Не знаю, откуда лучше любоваться Севастополем. Я его видел и любовался им с самых разнообразных мест и в самые разнохарактерные минуты. Я въезжал в него на пароходе в прекрасный полдень, когда море было спокойно, как тихий деревенский пруд, и вырезывалось своею густою синевою в рамки меловых обрывов; въезжал бурною черною ночью, когда с палубы не видно было мачты, и огни города казались мерцающими в водной пучине… Я смотрел на него с вы соты балкона в минуту солнечного восхода, когда бухта только начинала золотиться первым лучом, и первые шлюпки скользили от Северной и Корабельной к городу, через освещенный залив; тогда был апрель в начале, и миндаль и персик так пахли в прохладе раннего утра!.. Видел я его, наконец, с башни Малахова Кургана, обглоданной ядрами, почти a vol d'oiseau, весь у своих ног; тогда уже не цвели прекрасные душистые деревья, но зато гремела наверху гроза, неслись багровые тучи с Инкерманской долины, и молния обливала своим фосфорным заревом безмолвные редуты, напоенные русскою кровью… Со стороны и изнутри, — он отовсюду одинаково хорош, над доблестный город-подвижник.
И странно, так хорош, что я до сих пор забыл сказать вам самое главное: что он хорош даже мертвый. Севастополь теперь мертвец, — это, вне всякого сомнения. Что я говорил вам про прекрасные здания, про широкие улицы, — все это отнесите к трупу. Прекрасные здания с рядами светлых окон, с величественными колоннадами, стоят теперь раскрытые, разбитые, обгорелые, со слепыми глазами, с пустою внутренностью… Целые улицы этих каменных остовов, целые кварталы развалин, одни за одними, одни возле других, на огромном пространстве стоят в гробовом молчании, и будто ждут чего-то. Странно и страшно ходить по этим благоустроенным улицам могилы в светлую лунную ночь, никого не встречая, ничего не слыша, между двух стен высоких палат, которые провожают ваши шаги рядами своих черных дыр… Столько признаков шумной жизни, столько смелого приготовления к ней — и между тем гроб, громадный глухой гроб!..
Обитаемые дома разбросаны кое-где среди развалин и мало нарушают общее впечатление. Иногда только несколько комнат, иногда этаж, иногда флигелек разбитого большого дома приспособлены к жилью; главные улицы особенно пусты; несколько возродилась та часть города, которая лежала на южной покатости холма, ближе к базару; она была не так доступна ядрам и потому легче отстроилась. Теперешнее скудное население городка без труда размещается в этом уголке и кой-где среди развалин больших улиц… очень в немногих местах виден каменщик, штукатур, копошащийся в грудах плит. Постройка церквей над могилами адмиралов-защитников[26] идет туго и мало заметно. Нельзя думать, чтобы свежая травка скоро пробилась из-под мусора, заполнившего почву, и улыбнулась бы новою жизнью. Складывают тоже какой-то памятник на Малаховом, тоже медленно и робко. Далеко из-за Северной, с кладбища скромных храбрецов, которые легли тысячами, не оставив нам своего имени, высится еще памятник, огромная пирамидальная церковь,[27] которой я не видел вблизи. Все надгробные памятники. И Севастополю ничего теперь так не идет, как памятник. Только на воде его и жизнь… Вода никогда не станет трупом, хотя бы в ней умер и целый черноморский флот… Этих покойников я не видал: ни "Владимира",[28] ни "Двенадцати Апостолов",[29] никого из утопленников. Они гниют, погруженные живьем при входе в главную бухту; я говорю — живьем, потому что их топили со всем, как они есть: с провизией, пушками, снарядами. В настоящее время купец Телятников,[30] со своими килекторами[31] и водолазами, возится над вытаскиваньем со дна моря их останков. Горы ядер, картечи, якорей, пушек, извлеченных из воды, покрывают берега Южной бухты. Дело клеится очень вяло и дает мало выгоды предпринимателю. Говорят, будто американец, предшественник Телятникова, был счастливее и догадливее его. Он отлично обдирал с кораблей медь и другие ценные вещи, и сумел выручить пре вкусные деньги, не расчистив бухты. Зато изо всех портов Черного моря съезжались гости на его ужины; такого веселого дома не скоро дождется Севастополь, потому что любезный хозяин вовремя перенес свои ужины и свои беседы за Атлантический океан. Впрочем, продаю, за что купил.
Бедные, глупые матросы, уцелевшие от погрома своего пепелища, глядят на утопленников совсем не тем разумным коммерческим взглядом, каким поглядел на них американец — обдиратель меди и русского кармана. Они говорят о своих старых кораблях, как об умерших родных, и сохраняют даже легенды о них. Мне рассказывал один матросик о гибели "Двенадцати Апостолов"; он ни разу не называл корабля кораблем, а просто: Владимир, Пересвет,[32] Двенадцать Апостолов, словно не хотел и подозревать их отличия от соименников. "Три дни буравили в нем щели, сделали четырнадцать дыр, а он все не хотел тонуть. Не знали, что с ним делать. Подошел Владимир, стал из пушек в него стрелять — он все стоит, не тонет. Хотели уж государю писать. Только матрос один догадался, полез и снял икону, снес на берег. Как только снял, ту ж минуту он — как ключ ко дну. Это его чудотворная икона держала". Подите вы с ним! Приведите теперь к нему какого хотите очевидца, хотя самого заведывавшего потоплением, — он ему ни на грош не поверит. Все будут вам твердить историю об иконе, как будто сами снимали ее.