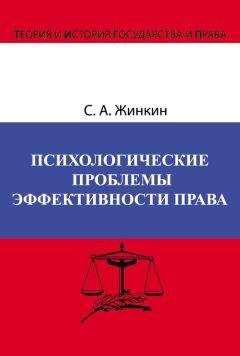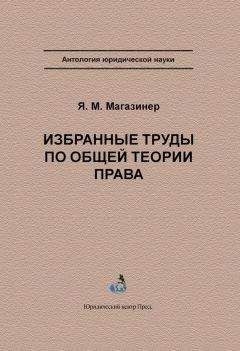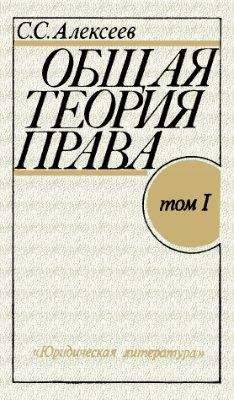А Гольденвейзер - В защиту права (Статьи и речи)
"Мы посылаем в ту же тюрьму преступников всякого рода - разбойников, растратчиков, клептоманов, убийц - и подчиняем их всех одному и тому же режиму и обращению... Это тоже, как если бы пациентов, страдающих язвой желудка, переломом ноги, нарывом в мозгу, туберкулезом, раком и инфантильным параличом, направляли в одну и ту же больничную палату и поручали их лечению одному и тому же врачу" (стр. 210-311).
"Из всего числа заключенных, - читаем мы дальше, - только около двадцати процентов могут считаться опасными и должны быть обезврежены. Всех остальных следовало бы держать не за тюремными решетками,... а направлять в "центры для перевоспитания", притом не на определенное число лет, а на сроки, зависящие от характера их болезни и успехов излечения" (стр. 212). "Тюрьмы должны существовать для тех преступников, которые признаны общеопасными и неисправимыми" (стр. 215).
"Я полагаю, - говорит в заключение этой главы Абрагамсен, - что для каждого гражданина должно быть признано обязательным посетить хоть раз или два в жизни какую либо тюрьму... Думаю, что нет человека, на которого этот опыт не произвел бы никакого впечатления и который бы не почувствовал, что что-то должно быть в этой области сделано" (стр. 223).
Так говорит врач. Будем надеяться, что юристы сделают, наконец, соответственные выводы из этих установленных современной наукой фактов.
{35}
ТОЛСТОЙ И СУД
В своей критике наказания Толстой еще не становится по ту сторону всякого права. Ведь наказание есть только одна из функций права, притом одна из наиболее спорных его функций. Можно отрицать наказание, всё же оставаясь на почве права и государства.
Иное дело суд: без суда немыслимо никакое право, никакое правовое государство. Суд - орган, призванный осуществлять право и содействовать его господству в жизни общества. Разумеется, существующие формы суда могут иметь недостатки, их можно критиковать и отвергать, но самая идея суда неразрывно связана с идеей правового строя. Суд есть необходимое орудие воплощения права в общественной жизни.
Но тем не менее, Толстой, на всем протяжении своего литературного творчества, с гневом и сарказмом обрушивается на суд. Для Толстого суд воплощение бессмыслицы и фальши: издевательство над подсудимым, потому что им по-настоящему не интересуются, а только хотят поскорее сбыть с рук; и издевательство над самими судьями, которые только одурачивают себя, желая внушить себе и другим, что творимое ими дурное и ненужное дело есть, напротив, дело в высокой степени необходимое и почтенное.
Такое отношение к суду мы видим у Толстого не только во второй период его жизни, но уже в 1860-ых годах. Припомним из "Войны и мира" сцену суда над Пьером Безухим в занятой французами Москве. Этому эпизоду посвящено всего несколько строк, но в них Толстой успевает сказать, что во всяком суде "желаемая цель" - обвинение. Задаваемые Пьеру {36} "вопросы суда, оставляя в стороне сущность жизненного дела, и исключая возможность раскрытия этой сущности, - как и все вопросы, делаемые на судах, - имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, т. е. к обвинению".
Судящие Пьера французские офицеры напускают на себя вид, "мнимо превышающий человеческие слабости, с "каким обыкновенно обращаются с подсудимыми". А сам Пьер "испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего ему делали все эти вопросы".
Для Толстого военно-полевой суд, который судит поджигателей в оккупированном городе, несправедлив и жесток не по особым условиям момента или по недостаткам данной формы суда. Толстой подчеркивает, что суд этот действует точно так, как всегда и везде действуют суды, что допрос подсудимого носит в нем такой же иезуитский характер, "как все вопросы, делаемые на судах", и что подсудимый испытывает в нем то же, "что во всех судах испытывает подсудимый". Толстой упорно повторяет, что его презрение и гнев направлены не против данного несовершеннейшего суда, а против всякого суда. В этом Толстой оставался последовательным всю свою жизнь. Он не находит других красок, кроме самых мрачных, когда ему приходится описывать какой-либо суд, будь то суд самого образцового устройства (Превосходный анализ и вдумчивое толкование взглядов Толстого на суд дает В. А. Маклаков в публичной лекции "Толстой и суд", прочитанной в 1913 году в Петербурге. Лекция была тогда же напечатана в "Русской Мысли" и вновь перепечатана в изданном к 80-тилетию автора сборнике ".Речи - судебные, думские и публичные лекции 1904-I926", Париж, 1949 стр. 157-193.).
{37} Вспомним "Смерть Ивана Ильича". В этой повести суд не стоит в центре действия, но является только фоном, на котором протекает деятельность героя. Моральный смысл повести в изображении того, как жизнь, прожитая в нравственном смысле бесплодно, проходит пред духовным взором умирающего человека. Иван Ильич - судебный деятель, член судебной палаты. Он провел счастливую жизнь и сделал хорошую служебную карьеру. Но всё, что Иван Ильич вспоминает перед смертью о своей судейской работе, рисует ее в самых мрачных красках. Он жалуется на своих врачей, которые интересуются только состоянием его желудка и печени, но отстраняют от себя всякий вопрос об его душе и нравственном состоянии. Но при этом он невольно вспоминает, что точно так же поступал и он сам, когда в качестве судьи выслушивал подсудимых и их защитников: и он допускал до своего сознания только то, что непосредственно относилось к делу. Но ведь если врач обязан оказывать больному не только физическую, но и нравственную поддержку, то в еще большей степени обязанность судьи - думать о душе подсудимого. Вместо этого, и врачи, и юристы - ремесленники своего дела. Воспоминания о судебной деятельности, доставившей Ивану Ильичу почет и уважение, не дают ему никакого утешения в тяжелые минуты предсмертных страданий.
Припомним "Живой труп". К кому обращается доносчик и шантажист, раскрывший тайну мнимой смерти Феди Протасова, кого избирает себе в сообщники? Он идет, как восклицает в своем страстном обращении к судебному следователю Протасов, "к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20-го числа по двугривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады"...
{38} А этот следователь составил себе мнение о деле даже раньше, чем приступил к следствию: "да, грязное дело, - говорит он своему приятелю. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо". Пущенная в ход против героев "Живого трупа" бездушная машина суда создает тупик, из которого нет выхода, - кроме самоубийства.
Припомним, наконец, "Воскресение". В этом романе мы видим судебный аппарат в действии: мы присутствуем в заседании окружного суда по делу Катюши Масловой, а затем при слушании ее дела в Сенате.
"В картине суда, - отмечает А. С. Гольденвейзер, - Толстой с поразительной ясностью воспроизводит ту черту уголовного правосудия, которая должна броситься в глаза свежему наблюдателю... Об убитом пишется и говорится всё такое, что вызывает в слушателях к нему отвращение. Вспомним, например, акт осмотра трупа... или акт исследования внутренностей убитого, содержащихся как будто даже не в нем, а в каких-то разнокалиберных банках... Об обвиняемых, об их настоящем, прошлом, об их печальной биографии, о грозящей им участи, в настоящем виде не говорится ни одного надлежащего слова. Для Толстого ясно, что дело суда творится не из побуждений участия, а исключительно по эгоистическим побуждениям: "Надо убрать подальше этих господ, если они совершили данное убийство, - иначе ведь они и каждого из нас могут укокошить"... По Толстому, теперешний уголовный суд не занимается вопросом о сущности преступлений и душе преступника: он лишь хоронит сданных на его расправу субъектов и больше ничего" (А. С. Гольденвейзер, "Этюды", стр. 8-10.).
Производство в Сенате - достойный финал всего происходящего в "странном учреждении, называемом {39} уголовным судом". Уже при слушании составленной адвокатом Фонариным кассационной жалобы, Нехлюдов испытывает недоумение, которое еще более усиливается, когда он присутствует в заседании Сената:
"Нехлюдов стал слушать и старался понять значение того, что происходило перед ним, но так же, как в окружном суде, главное затруднение состояло в том, что речь шла не о том, что естественно представлялось главным, а о совершенно побочном...
После речи Фонарина, казалось, не могло быть ни малейшего сомнения, что Сенат должен отменить решение суда. Окончив свою речь, Фонарин победоносно улыбнулся. Глядя на своего адвоката и увидав эту улыбку, Нехлюдов был уверен, что дело выиграно. Но взглянув на сенаторов, он увидел, что Фонарин улыбался и торжествовал один. Сенаторы и товарищ обер-прокурора не улыбались и не торжествовали, а имели вид людей, скучающих и говоривших: