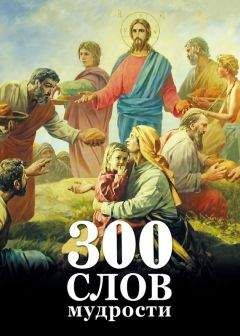Сергей Максимов - Крылатые слова
Он на тот, как и на этот раз, приладил западню, а сам, пустив заводного чижа, припал за куст, да там и замер. Старательно он самца выбирал; все присматривался; задолго до охоты отсаживал, а теперь на него уже вполне понадеялся.
По сучьям березы бегают эти зелененькие чижи, вольные и беззаботные, — и чирикают. Заводное, как только выпустили его на точок и услышал он чириканье, так и стал тотчас же «мастерить» — заманивать. Один чиж прилетел на западню — и заморозил охотнику сердце. Хлопнул западок, — так словно из ружья выпалил и растопил сердце: первый чиж попался.
А заводной все зазывает: призовет — обойдется, да так, что не знаешь: дивиться ли тому, как это умеет оказывать такую ласку такая маленькая пичужка, или свое сердце сдерживать, — не мешать заводному обманывать. Иной мастерит на все девять позывов, а вольные самки так колом к нему и бросаются. Начинают чижи драться между собою и пищат. От удовольствия и наслаждения у охотника дыхание спирается в горле, — целый день сидел бы да смотрел на птичьи проделки.
На соседней липе тем временем проявился зеленый молодец покрупнее заводного. Привел этот с собой своих целую стаю и всех при себе держит. Западню видит, а к ней нейдет. Раз подскочил, да тотчас же приподнял и взъерошил затылок, затрещал, — да и прочь. Точок опустел весь, только один верный домашний друг и остался на нем.
— Провалиться бы этому самцу сквозь землю! Не дорог конь — дорог заяц.
Надо теперь новый точо к розыскать, опять начинать охоту сначала:
— Тю-пик!
Это красноголовый щегленок некстати прилетел над охотничьей неудачей подсмеяться.
Туляки, впрочем, и щеглятники (их же дразнят: «щегол щаглуе на лубочку»). Не дают они спуску и синицам: одна какая-нибудь махнет, как колокольчиком, — казюк и замлел. Опять присел, стал прислушиваться, измучился, — до того хороша эта синичка: в пении сильна, и полна, и многословна.
— Ти-гю-динь! — и расстановочку сделает необыкновенную.
Завтра и на синичьи стаи напустит казюк заводного. Один такой у него уж отсажен.
ТИПУН НА ЯЗЫК
Порода голубей и вообще всякая домашняя птица останавливает на этом общеупотребительном ответном выражении «типун бы тебе на язык» всякому, кто пугает недобрыми вестями, стращает худым предсказанием, высказывает слишком откровенно какое-либо злое пожелание. У птиц, исключительно принадлежащая им, болезнь эта, по объяснению Эльпе в 1-й серии Обиходной рецептуры, — особое поражение гортани, полости носа, иногда покровов языка; то, что хозяйки дома обычно принимают за «типун», на самом деле есть особый придаток на кончике языка, в роде коготка, облегчающий при клеваньи подхватить языком зерна.
ДЕЛО В ШЛЯПЕ
Некоторые думают производить его в виде переводного слова с французского языка, хотя, по многим признакам, выражение это можно считать коренным или если и заимствованным, то в очень далекие времена. Метать жеребьи, определяя очереди, — прием, известный библейским евреям, — практиковался и на Руси. Шляпа, валянная из овечьей шерсти, также издревле русский народный головной убор, и белорусский колпак-магерку мы видим на скифских изваяниях. В эти шляпы на всем разнообразном протяжении русской земли бросаются всякие жеребьи в виде условных знаков — будут ли то каменные или надкусанные и нащербленные рубилом монеты, или кусочки свинца с меткой на счастье — при спорах и наймах. «Жеребей — божий суд» (говорит пословица); «жеребей метать — вперед не пенять». Чья метка вынется, на том человеке и всем спорам конец; его право на получение заказа перед соперниками на куплю и продажу, на поставку лошадей в разгон и т. д. неоспоримо, и дело в шляпе ожидало лишь очереди: надевай ее на голову — теперь дело твое из нее уж не выскочит.
ЭЙ, ЗАКУШУ
Это выражение, в виде предупреждающей острастки и легкой угрозы, народилось в Москве и здесь до сих пор бродит, вращаясь в среде торгового люда. Появление его в обиходной речи относят к началу нынешнего столетия и, приписывая ему историческое и бытовое значение, требуют от нас обстоятельных объяснений.
Покойно, сытно и сладко жилось честным старцам в смиренных кельях честных обителей, а еще того лучше, беззаботнее в богатых лаврах и ставропигиях. Пели у них на крытых переходах слепые нищие про Алексея — человека Божьего; «пили-ели сладко, жили хорошо», особенно в прошлом столетии, когда монастыри эти владели крестьянами, и Троицко-Сергиева лавра была помещицею более чем ста тысяч душ чудотворцевых. Худо жилось заштатным гулящим попам, которые с давних времен представляли целый класс людей без средств к жизни и определенных занятий.
Тут и запрещеные, и безприходные, все — гуляки и бражники: шатаются по веселым местам, валяются по царевым кабакам с тех самых времен, когда всякие деяния впервые выучились записывать, и с народом стали разговаривать писаными грамотами. Задумают ли удалые казаки поход на татар или просто добрые молодцы соберутся погулять и пошалить по матушке Волге, — безместные попы тащатся за ними. Когда поплыл Ермак забирать Сибирь, в его отряде шли три попа и сверх того старец-бродяга, который «правило правил и каши варил, и припасы знал, и круг церковный справно знал». Бродили попы и за Стенькой Разиным, нашлись таковые готовыми к услугам и у Емельки Пугачева. Чем больше нарастало лет и приближали они наше бедовое время — число безместных попов сильно увеличивалось. В конце прошлого и в начале нынешнего века оно было изумительно. Указы совсем перестали действовать: попов они вовсе не устраивали, а, стало быть, и не смирили. Шатались они по кабакам и нагуливали больную печень; болтались по базарам и, среди народных скопищ, говорили скаредные речи и творили неподобные дела. Дошатались и договорились в конец до того, что на их артель пало сильное подозрение в кровавых событиях московской чумы 1771 г. Московская чернь убила полу-малоросса, полу-молдавана архиерея Амвросия Зертис-Каменского, который любил раздавать, по жестокому нраву, плети и розги направо, налево и вдоль всего белого духовенства. Даже священники, приносившие бескровную жертву, были сечены до крови. И сами они убегали от приходов своих, и насильно их отгоняли от церквей. Скопилось таковых «безместных» к началу нынешнего столетия великое множество, почуявшее уже силу и возобладавшее смелостью. Кто не успел пристроиться в раскольничьих скитах поповского согласия, те вышли прямо на московские площади. На перекрестках они протягивали руку, на людных «крестцах» предъявляли всенародно свои рваные вретища и объясняли свои безысходные и неключимые беды. В Москве особенно прославился «Варварский крестец», что образовался из Большой Лубянки, Солянки и улицы Китая-города, носящей название свое от церкви великомученицы Варвары. Здесь, на дороге из Замоскворечье, собирался торговый люд во всенародном множестве с самым легким и плохим товаром, но дешевым и подходящим всякому на руку. Тут и безприходные попы приладили своего рода торговлю, чем умели и чего от них могли на рынке требовать.
Этот спрос на попов свободных, гулящих и безместных в особенности усилился в то время, как француз спалил Москву, когда погорели все церкви и стояла «мерзость запустения» даже в кремлевских соборах. Опасливое духовенство последовало примеру Августина (Виноградского), правившего епархиею за митрополита Платона, удалившегося, с чудотворными иконами Владимирской и Иверской, в Муром. На все великое множество московских церквей далеко недоставало требоисправителей не только в то время, когда Москва наполнена была пожарным смрадом, на улицах валялась конская падаль, торчали закоптелые каменные фундаменты и печи. Собравшиеся со всех сторон священники получали заказ и находили дело далеко потом, когда кое-какие храмы успели уже обновить или подправить. Кладбищенские же хотя и все оставались целыми, но стояли без причта и без пения. Деревянные поповские дома все пригорели. Ничего не пощадил француз: всех ворон поел, все драгоценности расхитил; над святыней надругался; многое с собой увез.
На подобном безлюдье и среди такого полнаго разрушения громадного города безместные попы обрели себе злачное место, чтобы было где править слово истины. Полюбился им пуще всего «Варварский крестец» и стали все они здесь собираться. Кому их было нужно, так про то все и знали. Походят безместные по толпе, присядут на лавочку, — все поджидают. Волоса, известные на рынках более под именем гривы, торчат из-под шляп с широчайшими полями всклоченными; засели в них пух и сено. Бороды не расчесаны, нанковые линючие подрясники подпоясаны веревочкой; на плечах выцветшие на солнышке камплотные рясы еле держатся. Иные обуты в лаптишки, и хоть бейся об заклад, на ком больше заплат.
Все забрались с первым светом, когда чуть еще начинал он брезжиться. Рыночные торговки, по своему сердоболию и по чужому обычаю, успели всех попов оделить калачами. Иной забытый или запоздалый и обделенный сам припросит: