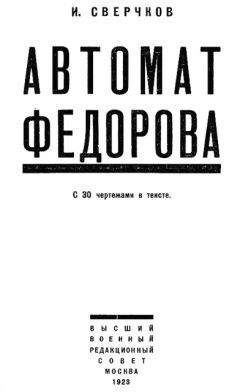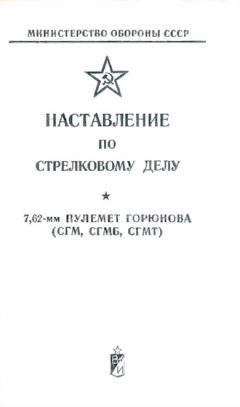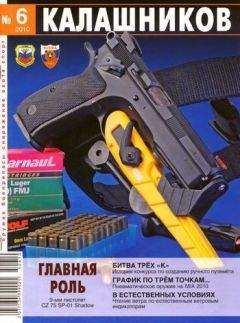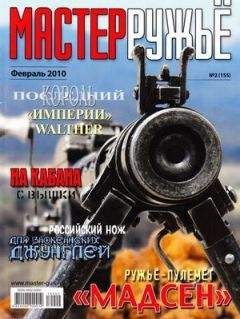Сергей Шилов - Время и бытие
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Где черное? Смех искристый, лучащийся белым врожденным пространством идеи белизны самого листа, сдвигающий книгу с места, объемлющем ее тело в содержащемся внутри сотрясении содрогающихся пространств, именующих себя вящей славой лавровой ветки, навострящей нить стиха, огромная вещь которого поначалу была соткана прозой, как навостряется гончая, враз обретая внутреннюю форму поэтики, строгие черты, имея в виду в качестве цели, подручного своего собственного неведомого, своей собственной тайны, сотканной из случайных людей, нелепо с сознанием законченных формалистов взирающих на виднеющийся в моем разговоре, ни далеко ни близко, ни высоко, ни низко за его пределами запечатанный понятием белизны, обретающий свое временящееся бытие в легковесном конверте враля и взяточника, врожденный совершенным в своем методическом сомнении лист бумаги, утверждающий всеобъемлющее и всеобщее мышление и существования, о чем и совершается вечерний, прошлый, утренний, будущий, полуденный, настоящий крик, переполняющий белый лист и изливающийся из него за его границу, совершая в единотактном своем, единовременном обходительном акте, намекающем раз взмахнувшей крылом медоточивой невыносимой безбрежности белого листа, мерами священной, мерами трепещущей, прорезывающего листовым своим железом, бритвой, живущий в губе, тяжкой медью своих элегий певчую прорезь в нашем сознании, заслоняющей одно от другого, восполняющий недостаток внимания одного от другого, обосновывающий поселение на ничейной земле, существующий в преддверие действительности, не дающий посмотреть с третьей сторона, вечно сущей своей формой покоящийся в мышлении, вызывая у него атомы в качестве зрительных представлений, рассуждений, высказываний, действий, смыслов, значений адресованных в почтовый ящик феноменологического отделения, откуда неистовые феноменологии, разнося феномены по ноуменам, заносят своими сапогами, которые каждое утро претерпевают омовение на расположенных возле каждой казармы крючковатых, расширяющихся книзу, концентрических, срезанного конуса сушилках для тарелок, воспроизводящих в оригинала территорию, осуществляемую ею, вызывающий различение рассудка, вторичных качеств и чувственности, первичных качеств, превращающих ее в кольчатую членистоногую и в этом смысле непрерывную подлинность вторичности, средоточие всего подлинного, осмысленного, критикующего наш чистый разум фактом собственного существования, показавшего нам самое совершенное наличие в пустоте нашего мышления белого листа, размещающегося в нем ток, начиная непредставимости мышления, как размещают белый лист, в первую очередь первичных чувств, буквы, строки, знаки, слова, словом, вся письменность в сознании пишущего, во вторую извилисто вьющуюся уже за хлебом, наверное, очередь вторичных качеств так, как он размещается на столе, как если бы стол был не только идеей, а целой вещью, присутствующей во взаимно-однозначном соответствии, отражений света и смысла, а то ведь даже эстетика овладела уже понимающим знанием того, что стол образуется пустотой некоторого неизменного, и в этом смысле осмысленного, свойства письменности, желающего каменистостью своего уступа, которой здесь является в качестве неизобретенной гипотезы нос, и самостояние старинной, подражающего толка крючковатости сержантского носа и устройства, на котором совершается чистка сапог устройства мира территории, зробленное теологами, тем более, что неверным ход в отношении этого устройства таинственным образом связывается с белым, имеющим внешнее звучание наказанием за неблагодарную чистку сапог, лишившую их какой бы тo ни было привлекательности, той, что придавала им невыразимое очарование свежеснятой трепещущей тонкой в молодых излучинах кожи, на которой подскользнулся одинокий прохожий, забредший по ошибке на территорию, отрубленный от час рубленными фразами мата, высохшими, сморщенными, радиофицированными, изящно покоящимися на тумбочках возле кроватей в спальнях единой казармы генералитета, где он занимается общим делом, выпрямляя замороженные на службе свои половые органы, размораживающиеся в тот же миг, нависающий затрясшейся грудью проститутки внутри ее самой, издавая свойственный ей вопль, повисающий половым гигантом со свисающими руками и заливаемой слюной речью стосковавшиеся по общему делу, достигнув оргазма, зазвучит тревога, дрожащий протяжный не звон, а жужжание, и казарме приходит в движение, сыпясь опять друг на друге протравленными кухонными тарелками, брошюрованными в коконы пансиона благородных армейских гетер-прапорщиков, и мы, поклацав оружием, в оружейной комнате, трогательно прощаемся с ним, с которым одно удовольствие иметь дело, потому что дело это основывается на свободе, запятнанности армейского времени косящего наивно исподлобъя взглядом белого листа высекая нас в ряд расположенных по пространству казармы стульев, гораздо более пустых, чем заполненных, непроницаемое, непродираемое, как ночной сон утопленника, пространство казармы, к экрану которого мы жмемся, теснимся, осторожно взяв Оружие, поставивши его на предохранитель, и замерев на побережье белого листа, предварительно положив оружие подмигивающей дырочкой ствола в сторону от себя, теснясь, толпясь и прижимаясь друг к другу в одночасье этого вдруг прорвавшего свои покровы одиночества, свалившегося на нас с неба дара, на который мы хотя и не глядим тупо, но все-таки в глубине души примысливаемся к нему, теплеем от него, скашиваясь исподлобья в преддверие приказа о прощании с оружием, наполняя казарму тем звуком, которым наполняют концертный зал расходящиеся с окончания концерта ценители, сочиняя свою собственную целительную музыку приветствия симфонии, от которой в эстетическом oт нее восхищении бежим мы не обычно, каждый в индивидуальном презервативе противогаза, заботливо предохраняющем и укутывающем нас от полного микробами воздуха так, как будто бы на нашем безголовом теле, каждый шаг которого все более под воздействием не пожелавшего распрощаться оружия, все более превращается в падение этого безголового тела с лобного места, на котором танцует по взрослому раскидывая руки ребенок, вмещенный в шубку и такой же величины шапку, такт танца которого доводит удары сердца до сознания, завершает их, успокаивающе указывает пальцем на их наличие, замирающее размеренностью, чистой намеренностью, измеримостью, выполнимостью, исчислимостью времени территории, когда образуется болезненное, не дающее выход никакой молнии ума-совершенного-грома, ночное дежурство, сохраняющее в себе подлинную основу культа армии вслед за объявлением человека противоестественным существом объявившая противоестественной смену дня и ночи, способную привести к присутствию самости, вселило в души страждущих страх ночи, веселой игривой новеллы эпохи возрождения, легкое дыхание Франции и ее вечного мушкетера Декарта, совместно со своими веселыми друзьями Сартром, Фуко и Бартом, сменившими день на ночь, обманывая Дерриду-кардинала, вечерню на пирушку в методическом своем сомнении в тайне ночи, за черным квадратом которой, воплощающим естественную смену дня и ночи, находится белый лист, врожденная идея белизны, слепящей, лишенный смеха и черного квадрата, свет, форма которого, соответствующая академическому чтению, пронизывает все ночное дежурство, на смену которому, если кто и придет то это будет только чудесное избавление дарующее сон, выбираемый из армии на любой клетке территории, как хлеб выбирается из закромов до последнего семени во временящемся бытии голода, явление черного квадрата, полагающего в своих границах начало заполнения письменности, пусть повседневной, но всегда озабоченной белого листа, слепящего глаза, раздирающего слух и внутренности, состоящего только из красного и коричневого цветов саморазличающейся самораздирающейся плоти в отсутствие черного квадрата, когда в ответ высокому плечистому корейцу мог к нему симпатия за руководящую ответственность независимости его восприятия, виртуозное владение рациональной теории ответственности, так происходящей из вопрошания, раздирает язык до той невыносимой боли и степени, что я указываю ему пальцем на штык-нож временящегося дневального, как авангардист просто пальцем указывает на вещь вырывая ее из привычных ей бытовых связей, что принуждает моего собеседника продолжать, внимательно склоняясь идти за мной, выспрашивая меня, запрашивая меня, допрашивая меня о замысле моего жеста, заметно расшатавшего его состояние, взвинченное уже происходящей этой ночью подготовкой нашей формы к употреблению ее в присяге, последующей, на утро, по его вдруг внутри его мыслей созревшему раскосо убеждению, что оно никогда не наступит только благодаря заволошенности его наличия в качестве черного квадрата моим дымящимся сознанием дневального куска дня, испортившего лингвистической гарью синтаксической шашки весь кубизм, всю семантику, в которых он жил, словно рыба в воде сродни и от природы, наилучший из нас, ответственных перед домом каменщиков территории, вопрошающих, опознающих число звездочек погон, вкрученных в решетку письменности, которые однажды, смеха ради, были, подшиты на гимнастерку спящего сержанта, выступившего спросонья и на утро в обличье целого майора, относительно крючковатого носа которого взлетела в приветственном возгласе, как брошенная вверх шапка, и крючковатый нос затравленно озирался, втягивая в себя пространство казармы, обыскивая, кого бы ужалить, чихая от библиотечной пыли, обнаружившейся когда на мгновенье взлетела вверх и собралась в мерцающее средоточие казарма, и открылся смысл процедур выравнивания по ниткам спинок кроватей, как составления каталога, включает который в свой состав лицо сержанта, вдруг отдалившееся вглубь своей телесности, и там зароившееся, землистое, пекарское, маска черного квадрата, влачащего свое тело по библиотеке как слизняк по плите пола, залитой тонким светочувствительным слоем отвердевшего значения, выжатого из книг их собственным спудом, слежавшегося времени, Борхес так и остался в погонах майора на курточке библиотекаря, воюющего за общее дело, так и не сумевший обратить друг в друга все носы в этой книге, покоящийся в лабиринтах искривленной носовой своей перегородки, разграничивающей опыт телесности, распределяющей его, воплощая сумму принципов церковной иерархии, раздвигающей языком границы нежно поддавшегося тела, толчками интеллекта достигающей синтаксиса произведения, минуя текстовую работу, не увеличивая число существований, лишь доводить их до совершенства действительности, выражая их через комплексное число, именуемое в простонародьи математиков, мнимым, что и свидетельствует кореец, произошедших из семени моей текстовой работы, равностоящий среди прочих существований, теснящихся друг к другу, исток которого источает ванта вместе с неокантианством, телесность которого находится в его мышлении, как религия чистого разума находится в канте, различая сердцем своим, находящимся прямо перед собой, крен накреняющейся армии способностью тех бесед, в которые он вступал с сержантами, в которых он всплывал, а они нет, истребляющий тиранов, в которых он ошибался так же призрачно, как норовил тиранить тонкорукого, тонконого ефрейтора батальонного оркестра, опираясь на свою точку изгиба, совершающего размах своего шага, состоящего из ножниц его вертикальных и горизонтальных осей, срезающих начисто и бесследно половые органы представляющего из себя на плацу под марш, выделяясь этими своими ножницами в строе оркестра, крупнейшего и тончайшего логика современности, построившего систему искривляющих поверхность пространства-времени различений, начинающихся в языке, по которым проходил он как канатоходец по паутине рокового паука каната, существуя так, что ни одна нить ни одного сознания не шелохнулась за исключением нити, на которой было подвешено сознание корейца, опровержение которой он вовремя заметил и сумел противопоставить ей конструкцию, плод глубокой и изощренной работы ума, исторически родившийся из просветления фигуры очевидности, достоверности в момент, когда вышла из строя вся канализация казармы, и употребление метафизики происходило в извилину на улице, это была совершенная модальность, внутри которой разыгрывалось, опредмечивалось это событие "надо опорожниться", превышающая по силе и достоинству картезианскую модальность, снабжающая ее существованием, вызывающая опосредованный смех, в который и улавливается Событие этой катастройки, проделывавшее дырку в языке, размещенном в голове в качестве тончайшего ее механизма, в образовавшееся отверстие которой то и дело заглядывал Борхес пропустить кружечку-другу, узнавая там книгу только по телесному ее виду, хотя мы в нашем служении должны были опознавать книгу уже совершенно абстрактно, критикуя по отработанному образцу воинскую присягу, которую каждый из нас должен был представить обработанную критику, подходя к столу, за которым сидел начальник присяги, которым был Джойс, предоставляющий любой на выбор листок его эпопеи, и должны были комментировать его с той выразительностью и полнотой, чтобы начальнику текстовой работы становилась открытой внешняя наша сторона, и когда я подбодренный логиком, играющем на духовом инструменте, его кивком, и корейцем-историком, смеющимся над авторами концепции конца истории его пинком, приблизился к Джойсу в форме усатого прапорщика, окончившего школу прапорщиков с золотой медалью, как девица В.И., одного из немногих прапорщиков, решившего стать офицером, спрятавшего на этот раз свое презрительное снисходительное отношение и интеллигенции в ницшеановских усах казаческого атамана неповреждающим пинком молодого человека, имеющего дочь, и отказавший читать протянутый мне совершенно безо всякой задней мысли листок из разрозниваемого сидевщим за столом, накрытым ватманом, на котором умельцами скупыми армейскими средствами линейкой да тушью нарисован был черный квадрат, писцом учебника по грамматике, молодцевато вытер об него сапог, и только указал Джойсу пальцем на описанную мною территорию, являющуюся совершенно, а не по преимуществу ничейной землей, на которой только стоят, собрались все, кого касается эта книга, каждого из которых она коснулась своими сценами, вырезав на своей поверхности действительное число, более строгое, чем посредством математики, число людей, вещей, предметов, вещей, слов истин, методов, которые встретились ей на пути, и большинство из которых она хотя и видимо упустила, по они тем более пришли, тем более заинтересованные таким к себе вниманием, ведь она завладела ими тем сильнее, чей если бы она их открыто опознала, описала, усилила их присутствие отвлеченностью совместно-раздельного бытия от нерастраченного смысла, отбросив на ветер листок которого, трепещущий в совершенстве своего методического сомнения, и вместо подписи под текстом военной присяги ставя перед собой совершенно узкую задачу оттенить и оттеснить в гордилевом римском философско-политическом профиле сомнительного ребяческого свойства плагиат античности, этой дикой разросшейся подписью росчерка пара новеллу, сквозь которую видно было в окне белого запыленного белым порошком, в котором, оседающем на них, не совпадая с их фигурами, двигались убеленные этим порошком, засыпавшим их рабочую форму тела, занятые такой работой непонятного свойства в требующем скорой отделки одном из помещений штаба, залитом рассеянной белизной просвещения, когда вниз на часовых, стоящих в ночи белых фигур спускаются белые нити с запыленными безо всяких царапин ведрами, полными белизны, и о чем-то припорошенный белой пылью, беседовал с внушением, со своим земляком маленький в белом парике ефрейтор, и работа продолжалась неустанно, не давая заполняться белому врожденному листу, на который смехотворно опускалась белая рассеянная пыль, образующая белые просыпанные дорожки письменности, не уменьшающиеся горы белого ее порошка, которые можно переносить, перевозить, даже вывезти всю, но нельзя лишь заполнить белый, врожденный лист, так что ниоткуда кругом не было где и за что взяться тексту, но я хотел спать и был черный квадрат окна и я заснул, и Джойс, пронзив пространство, сгорел как комета с подожженым хвостом ракетки замечательно бредового Циалковского, то есть - взлетел, по его мнению одобрительно хмыкнув интеллигенту, который поставил точку выше чем Джойс. /вот она/ это пепел Джойса /развейте его/ да и сами развейтесь// в ней есть все, что вам нужно/ Нет ничего в мужчине, чего бы не было в женщине, и, напротив, нет ничего в женщине, чего бы не было в мужчине. Мужчина есть тот, который от природы стремится к женщине, который не является никакой женщиной, и не находится ни с какой женщиной, следовательно, мужчина есть желание стать женщиной, сущность мужчины. _Женщина есть та, которая от природы стремится к мужчине. Она не является никаким мужчиной и не находится ни с каким мужчиной. Она, следовательно, есть желание стать мужчиной. Человек есть возможность исполнения желаний. Он есть вопрос и ответ. Он есть сущность и существование. Он есть мужчина и женщина. Вопрос и ответ есть допрос. Человек есть мужчины и женщины на допросе. Ручаюсь, именно это говорил всем нам замполит Пруст в центральной комнате казармы, где мы оказывались чаще всего вместо бега, который замполит прекращал неизвестно из сожаления к нам или к себе самому, а точнее в каком-то сродненном чувстве, известном ему из припоминания того, как в юности он, подражая Платону, писал диалоги, но потом отрекся от них как от формы, убеждая всех, а прежде себя самого в неспособности диалога предоставить место размещению истины, удержать ее хотя бы некоторое время на слуху, отличить от слов и, вещей, бытия и времени в их пространственном свечении взаимно-однозначного отображения, ничуть не сомневаясь впрочем в способности литературы все его проделывать, из методического сомнения в котором и произошли диалоги, пронизывающие всю литературу, которую пытался с успехом воплощать замполит, собирая нас всех в поисках утраченного времени в армии, утраченного в бесцельных опосредованиях на ее территории, предназначенной только для бега, совершенного чистого, извне к которому не может быть добавлено ни одной части, всего в достатке, вечного и неизменного, подлинного предмет-объекта эстетики, каковой присвоил себе замполит, нежно переписывающий на пухлых своих щеках тексты своих лекций, вечно остающихся после него на столе кипой бумаг, каждая из которых подобно ассигнации, что вошло у него в состав привычки к страху смерти, и для последующих каталогистов, многие из которых слушали его лекции о сущности литературы, его роман, вторая часть его творчества, где непосредственно разрабатывал он отношения смысла и языка обретал вытаскивал подложенное им самим в основу своих лекций посредством онтологизации бега название "в поисках утраченного времени", так что не случайно обращается он ко мне, дневальному, отстаивающему свою смену, обретшиеся неожиданно из сумеречных миазметов теории литературы, с пухло-впалыми детскими щеками, онанистически себя самоудовлетворяющими. В смыкании по законам геометрии литературы извне обнимающих друг друга щек, имеющих ввиду только один опыт телесности, с вечерним криком тонущий в конечной степени повторов, смысловых огрехов, нестыковок, опыт поглощения полой полостью бисквитного пирожного, каковой опыт и повредил плодотворный его платонизм в направлении его временящейся заботой самости, оставшейся, спрятавшись под повторы своих покровов, уходящих и возвращаюшихся вспять и вопреки, снимающихся, недовольно, скривив плаксиво губки певчей прорези своего сознания, в которую как в почтовый ящик, предмет особой заботы феноменологов, влагается наличие в обходящности моего присутствия времени, в поисках утраченности которого, воспроизводящегося с завидным постоянством здесь теперь и вот на территории необходимо прекрасным: выводящим меня в собственный просвет через ту часть стены, стесанной из камней-слов-блоков, одна из букв которого выпала из-за просыпавшегося раствора, соскабливаемого слой за слоем с почтового ящика певчей прорези Пруста, который только читая письма и ждал в наследство литературу от богатого дядюшки Гомера, но безобразный помертвевший дядюшка пережил полного сил, но лишенного средств племянника, в который я попадал, записав себя в качестве адреса на конверте с вложенным в него вчетверо согнутым листком пустой от символов белой бумаги, который опускался на дно п/я, расписанного феноменологами под орех, пронумеровавшими каждую доску его устройства, чтобы его можно было свободно перебирать, разбирать, собирать, перевозить из города в город, где на ярмарке за умеренную цену отгадывают зеваки и слухачи номер воинской части, неподалеку от которой через узкую полоску действительности сродни той, что прибила нас к иероглифам КПП, располагалась в качестве дна почтового ящика-замполита-пруста, просыпавшаяся наружу раствором письменность, выветрившаяся через ту точку, которая как лифт гостеприимно распахнула двери, сбрасывая нас с кончика пера у почты, вошедших в нее по выходу из части, аплодирующей страстям замполита решившего увековечить свое имя присвоением своему роману "Колибри" в порядке премии имени "В поисках утраченного времени" как и будет вынужден записать переписчик этот роман в каталог, как следующий сразу за лекциями, в которых время беззаботно и безрассудно терялось ради внутренней формы точности, вменив автору заботу, которой насыщаются его произведения съезжающимися к своим детям родителям, что привозят детям кубы, многогранники продуктов, которые как фасеточный глаз изловчатся следить за ними уже на территории хотя бы в течение некоторого времени, добиваются как мыслимой, так и протяженной встречи с детьми, этим качеством которой отвечает небольшая гостиница, номера которой фрахтуются наиболее зоботливыми родителями на несколько часов, как фрахтуются номера известных заведений, где их большой ребенок втягивает свое тело в ванной и решаясь вдруг заняться онанизмом, сдвигает, как Кант своим сидением сдвигает к себе миры, с мертвой точки сущности армии, ocтавив воду включенной, где он наконец, может прилечь в постель с постельным бельем, с тем чтобы через полчаса с нее подняться, не засыпая, с тлеющим огоньком сознания, повреждающим умозрение, есть подаваемые в постель фрукты и овощи с собою, есть клубнику, виноград, дыни, в кустах подаваемые в постель, затем бисквиты, пирожные, сладкое, то есть в той последовательности, как это и происходило дома на свободе, при этом всем не произнося ни единого слова, так-как надо наблюдать да тем как из глаза в глаз сыпется время увольнения, опрокинутое вверх дном посредством символа увольнения в голове, покоящейся на подушке как отдельное, не считающее более нужным скрывать собственное существование, тело, пока на окне центральной гостиницы городка сушатся портянки, стиранные, которые со смехом требуют убрать от горничных какие-то офицеры, проходящие по улице, на которой через некоторое мгновенно произойдет разлучение с родителями с сыном, все еще продумывающим с возможной последовательностью факт высказывания потусторонних офицеров, не вольется ли оно в текст моего присутствия в армии, и уносит блудный сын нехитрый свой скарб, увивающий письменностью витрины магазинов, вскрываемый в присутствии Пруста, заступившего в этот день дежурным по территории, очевидно надеющегося найти там бисквитное пирожное, но тщетно, ведь мерой стиля литературы оно существует, мерами же субстанции отсутствует, это качество вкуса безвкусной субстанции способности суждения эстетика, заедающего свое эстетическое суждение бисквитными пирожными, от которых вечно голодного Сартра, раз их крупно нажравшихся, охватывает тошнота, от которой как только я ее увидел, меня и вытошнило, чуть только донесло до территории, где ей было место, выступающей в качестве страсти по обеду в городской столовой, который можно заполучить, вписавшись в ряды отправляемых на различного содержания работы в городке, где подстегивалось ни шатко ни валко так хорошо знавшее свои запросы о сущности пребывания в армии сознание, что уже и прочно было им позабыто, товарно-денежными отношениями, в которые, наверняка зная, что один, действительный рубль равен одному возможному, вступали мы на территории либо в киоске, размещавшемся внутри проходной так, что приходилось сильно размахивать рублем чтобы не быть заподозренным в риторическом своем намерении оказаться непосредственно возле выхода наружу, что гораздо страшнее, хотя и безопаснее, чем быть заподозренным в действительном таком намерении, или в чайной, где я понимал разрыв между сущностью и существованием кафе, бистро, закусочных, и понял деятелей искусства, собирающихся в этих заведениях легкого свойства, потому, что здесь могли они вплотную воспринимать ужас от того, как разрывают сущность и существования такие вот заведения, как чудовищны они для индивида, становящегося в кафе без существования, либо самой только сущностью человека-невидимки, чистым отображением друг в друге взаимно-однозначных своих соответствий, домогающихся любви корейца. Наряд по столовой был для Джойса, ответственного за нас непосредственно единственного прапорщика из ответственных, нацепившего на себя ницшеанские усы, сообразно гоголевским описанием свисающие и маленького крошечного для них стойкой сушилкой для тарелок подставкой для чистки сапог по совместительству подбородка, один вид которого только, подставленного для чистки сапог подбородка, добытый в скорпионовом смысле ответа из самого допроса, ужаливающий письменным проявлением собственного носа прямо в его собственное мышление, опосредующего свою ответственность посредством Борхеса, заманивающего библиотечной пылью аромата мужского семени в лабиринт испорченной своей носовой перегородки крупного носа, спасающего мозг от кровоизлияний, и не будь которой, не было бы, не настоялось бы на деле, основанном на мышлении, никакого Борхеса, а была бы только сильная, кособоко вперед склоненная, имеющая своей целью скорее остановить, удержать на месте, чем продвинуться хотя бы на бесконечно малое расстояние в ничто, и на этот раз возобновляющем себя в нашем присутствии тем, что наряд по столовой выпадал Джойсу, играющему в кости от Пруста, в кости не играющего официально, но играющему в них тайком, и тоже неизбывно уменьшающего свой капитал времени в неочередной незаслуженный раз, так что мы будучи в общем-то примерными, дисциплинированными литературными героями, знающими свою обязанность и понимающими свою ответственность перед умирающей за нас родиной из писанных и неписанных уставов литературы, где говорится, что литературный герой должен бдительно охранять и стойко оборонять свой своей место в тексте, не курить, не пить в тексте, не отправлять естественные надобности, допускать к своему месту в тексте или автора текста или литературного критика, своего разводящего, не петь, не допускать к своему месту в тексте посторонних, а, будет этакое случится, то, необходимо, разразившись в воздух монологом, если он не подействует бесстрастно принять диалог, оскорбившись на автора, который хотя и понимал, что не имеет к нам ровно никакого доступа, отношения и только назначен, стоит над нами еще случайнее, чем название книги, составляющее наш взвод, но усердно выполняет бессмысленное свое господство над нами, совместно только существующими в единовременном акте приведения территории из состоящей в наличии в боеготовное идеи господина и идеи раба, взаимная предрасположенность которых становилась очевидной в наряде по столовой, той в углах территории хаотически шевелящейся среде, где все-таки происходило такими авторами как Пруст и Джойс закрепленное строго-настрого, но мимо воли и с нею вместе ими вводящееся, воспроизводящееся, появляющееся, хранящееся в тайне, чтобы хотя бы что бы то ни было различать на территории, разведывать в ней безопасные пути и изменяющуюся в ней истину письменности, обращения письменности в письмо, минуя литературу, такое обращение господствующей на территории кромешной заботы о ее повседневности, которое минуя все законы и установления человеческого рассудка через одно присутствие только порождало природу этого мира - различающееся размножающееся клетками спорами опыта связывание телесности и письменности, растущее, укрепляющееся, твердое, крепкое, мускулистое, плечистое тело, лишенное головы на клавикордах гильотины мата, превращающегося в наряде по столовой в свою сущность, дымящуюся, отмывающуюся, разноплещущую, растворяющую в серной кислоте полотно разговора с родителями о службе в армии, представляющее из себя среду, из которой возникают в качестве ее зрительных образов, сушилки для тарелок начала века, настолько необходимые, что пронизывает все небольшое пространство комнаты-мойки, по прутьям которых мы и передвигаемся в ней, на отшибе столовой, выделяя себя в отдельную от нее часть, сливающую законченную совершенную воду в выбросы труб, загроможденной пизанскими башнями котлов, вместилищ для мытья, проект которых хотя все еще и не придуман, но пространство мойки так плотно от мата, с кающегося единообразием давления в голове, заливающего слюной всю речь в экстазе подражания мойке, заливающей водой спекшееся единообразие посуды, уносящей с собой идею их нечистоты, в воде обретающую устойчиво-ширящиеся истолковывающиеся очертания, смываемые истираемые руками литературных героев, с тарелок остатками пищи, которая представляет из себя остатки руины письменности, так, что они сортируются по различным жестяным бакам, в которых проницательный писательский взгляд способен различить эти остатки, где особым спором пользуются у некоторых литературных героев, и такие случайно основательно зафиксированы, изучены, каталогизированы литературной критикой, употребляющих отходы мяса, которых скапливается такое количество за один роман, что их не увидит столько за все время службы, временящихся и в других, не менее древних, чем проза жанрах литературы, например, в поэзии, где один на один оказываемся мы в подобной медицинскому кабинету комнате лабиринта столовой с грудой сырой рыбы, которая будет поглощена частью за один ужин, и заключается письмом ее разделки, мимо которого не проходит, в которое включается, вписывается все существующее, не умножая, но и преуменьшая, разводя по тупикам лабиринта, число существований, изображаемых диалоги, состоящим из двух ударов, одного, наносящего рыбе удар, лишающий ее наискосок головы и части тела, причем делать все это необходимо так, чтобы не срезать с нее слишком много мяса не затормозить также излишне скрупулезными движениями текстовую работу, ведь за оба прегрешения последуют внушения от местного писателя, обрекающего на дневальничание противоестественной смены дня и ночи, обрекающего на постижение сущности армии или того хуже, на рукоприкладство литературного критика, с помощью которого и постигается феномен рукоприкладства в армии, себя-в-самом-себе-обнаруживающий, для того чтобы связать которое с ее сущностью не хватило бы и Аристотеля, и уж конечно не каждый на нас способен был воплотить в себе как Фому, умеющего не тормозить текстовую работу, так и Августина, умеющего не срезать с рыбы двумя ударами встречного диалога слишком много мяса, другой же удар хранил в себе тайну общения с письмом-разделкой-расчленением-литератур-критикой, когда рыба как бы сама, под воздействием нежного прикосновения к своей грубой кольчатой чешуе, отбрасывала наискосок хвост, умелостью этого жеста расширяя-пространство чистилища с двумя большими ваннами, одной архимедовой, где рыба была уже очищенной, и можно было начинать науку, другой эпикуровой, где рыба еще не была очищена, подшиваясь вспоротом брюхом ко времени так, что прояснилось представление о факте неоспоримой полезности того, чтобы вся служба еще два года происходила в этой комнате, если только еще иметь здесь магнитофон, и то была та мысль, которая позволила мне прочесть этот эпизод классического романа, описывающего невероятные условия труда молодых ребят, подневольных детей и перевернуть страницу, веря в эту мысль и даже заронив внешним своим, спокойствием эту замечательно бредовую мысль в других, которые тоже вдруг поверили, что они готовы бы были просидеть здесь, пусть даже читая эту страницу классического романа, и когда мы это поняли, мы ее перевернули, хотя в комнату не раз заглядывал, злобно шипя, оказываясь карликом больших истолковывающих глаз литературного зрителя, критика, который и должен был эту работу выполнять, и на которую нас отправили по негласному распоряжения Борхеса, Дкжойса, Пруста и еще бог знает кого, с которыми литературный критик, а это был Сартр, имел какие-то дела или просто был нужным с точки зрения логики человеком, нашедшим свое бытие в столовой, до кладовых особенно охочи прапорщики, что я подлинно узнал, когда под водительством Джойса отправил нас, избранную группу литературных героев, в расположение отдаленно от столовой кладовые, где нашей задачей стало развесить, предварительно застраховав, на кроки в холодильной камере, с десяток огромных мороженных туш, страхованием которых был поглощен Рубенс, совершить заморозку письма так, чтобы безболезненно были из него удалены все виды литературы в спекшемся единообразии ее жанров и чтобы осталась одна только чистая риторика, мороженные мясистые куски и туши которой мы несли по двое, сгибаясь в коленях, символах, в которых внутренней жизнью зарождался миф, и укладывая их себе на ноги, так если бы мы некоторое время сидели за ее столом из риторических перетаскиваемых нами фигур, за которым тосты на мате произносил прапорщик, и уже общими усилиями иногда с риторической поддержкой прапорщика, автора романа, подвешивали натужно снизу руками его подхватывая этот кусок риторики на крюк заботы разгоряченные в курорте холодильника и покачивающихся и раскачивающихся мясных туш, мы идем за следующим куском риторики, оказывающемся в холодильнике горячими дымящимися кусками совести, так, что когда эта работа завершается, то я понимаю, что мы имели дело со ртом профессора-метафизика, ведущего свой семинар у закадычных своих студентов, и даже прапорщик, наш автора, утирая пот со лба, в белом с пятнами мясных волокон халатике, с налитым и отполированным изнутри и снаружи водкой крепким лбом, указывает, что чтение этой нашей текстовой работы, будет описанием законов бытия, которые начали господствовать в полную меру, когда помещение столовой оказалось на ремонте, и пищу приходилось возить на некоторое расстояние к заросшей поляне на окраине части, и когда сам Пруст следил за правильностью отпуска порций масла, сливочных кружочков расположенных сотнями на употребляемых с этой целью протвинях непомерной величины, которые вместе с хлебом погружались в грузовик, который следовал это короткое расстояние, В котором обреталась часть наряда по столовой, и каково же было удивление Пруста, когда он узнал о забракованной одной поездке масла, итого деликатеса, по той причине, что один заступивший в наряд по истолкованию и переводу текста литературный герой то ли от сотрясения грузовика, то ли от невиданной силы поворота, его изнутри толкнувшей, в прожиренной с темными пятнами своей рабочей форме в сапогах с комьями глины, очутится заскользив ногой на противень в попытках исполнить на ней варварский танец живота, на разъезжающихся ногах проститутки, и в экстазе от этого танца весь вскоре оказавшийся на протвине, как на резвом коньке несясь по катку протвиня по всей непомерной ее величине из края в край и обратно, усиливая красоту исполнения, на которую мы все взирали с остервением и спасались, своими срывающимися движениями, тонкой пленкой распространяя масло по черному квадрату протвиня, светочувствительной пленкой в фотолаборатории крытого грузовика, где и проявляется негатив литературной критики, на который попадает свет литературы, щедро и всецело распространяемый указывающий в своих артикулах на необходимость ускорения поставок котлов с кашей и чайников с улицы чере