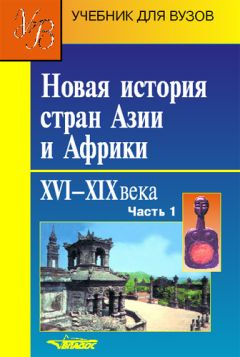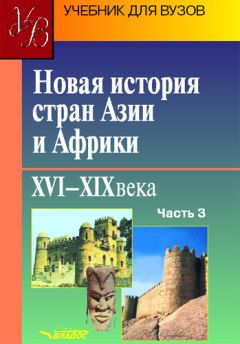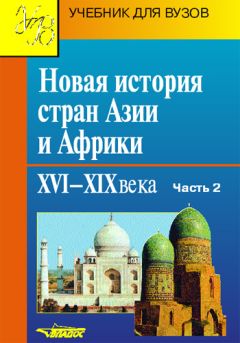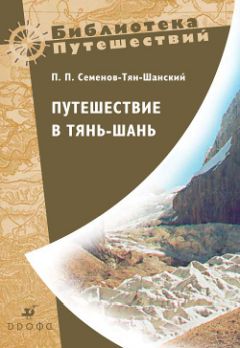Капиталина Смолина - 100 великих театров мира
Речь актеров в спектакле была весьма при этом прозаической, вполне в духе Шоу. Никакого высокого слога. А если нужно, то самые высокие слова и патетические реплики попросту „проглатывали“, бормотали скороговоркой. Этот спектакль был полемичен по отношению ко всем канонам академической постановки Шекспира. А поскольку бунт был радикальным, то, естественно, потери тоже были довольно велики. Потери в тонкости и величии, в глубине и красоте. Бирмингемский эксперимент, однако, всем показал, насколько актуален, даже пугающе актуален, может быть Шекспир. Этот спектакль, конечно же, противостоял всей концепции „веселых 20-х годов“. Кроме „Гамлета“ шекспировский репертуар театра включал „Макбета“, „Укрощение строптивой“, которые тоже шли без всякой пышной декоративности, в лаконичном оформлении и современных костюмах. В 1952 году на сцене театра „Олд Вик“ Бирмингемский репертуарный театр показал первую, в 1953 году — первую, вторую и третью части „Генриха VI“ Шекспира, а в 1959 году вновь поставил „Гамлета“.
В это же парадоксальное десятилетие английский театр открывает для себя еще одно имя — Чехова. Драмы Чехова оказались совсем неожиданно близки тем английским интеллигентам, которые совершенно не чувствовали в себе склонности к „новой деловитости“, которые ощущали себя чуждыми современности, были растеряны перед жизнью.
На сцене театра в Бирмингеме выступали крупные и знаменитые английские актеры — Л. Оливье, Р. Ричардсон, Н. Эшкрофт, П. Скофилд.
Первая студия московского художественного театра
Первая студия Московского Художественного театра была открыта в 1913 году по инициативе молодых актеров МХТ, поддержана К. С. Станиславским и его помощником Л. А. Сулержицким. Студия была открыта как „Собрание верующих в систему Станиславского“. Студия ставила своей главной целью экспериментально-творческую разработку системы Станиславского.
„Студийность“ стала заметным явлением в театральной культуре в 10-х годах XX века. Студии возникали как „новые ростки“ при больших театрах. Студии были направлены на поиск новых театральных идей. К моменту возникновения Первой студии Московский Художественный театр уже прошел творческий путь длиной в 15 лет. Он стал театром, сформировавшимся в главных своих принципах — принципах реализма и психологизма. Но руководители театра по-прежнему были заняты исследованием современных психологических проблем, состояния современного человека. Но как оформившийся в своем отражении мира. Художественный театр далеко не всегда мог позволить ставить на своей сцене ту драматургию, которая набирала авторитет — драматургию символистского плана, экспериментального характера. Но, вместе с тем, в театре всегда сохранялись чуткость и интерес к своему времени, а потому создание студий, где был бы возможен эксперимент, не обязательно рассчитанный на широкую публику, был для театра необходим. Московский Художественный театр нуждался в обновлении, и это хорошо понимали руководители театра, отвечая на вызов времени. А время было таково, что всюду слышались разговоры о „кризисе театра“ вообще, вплоть до „отрицания театра“, как называлась нашумевшая статья Ю. Айхенвальда. Ненужным театр казался и потому, что он ничего нового дать не может, а вращается в одном и том же круге приемов. Цениться стали именно отдельные опыты, в которых театр показывался в облике изысканных новых форм. Цениться в театре стали „философские проблемы“.
Студии рождались как центры нового театра. Они пытались развивать новые приемы игры, постепенно сосредоточивая вокруг себя немногочисленного, но верного зрителя. В Московском Художественном театре первые такие опыты велись в студии, основанной Станиславским и Мейерхольдом еще в 1905 году — тут „утончали и уточняли сценическое мастерство“, режиссерские построения, пробовали новую драматургию. Но всякая студия стремится к законченной форме — завершенному театру. И всякая студия невозможна без коллектива единомышленников, без представления об общих художественных задачах и единства мировоззрения. Всякая студия — это, прежде всего, школа. Из театральной школы потом и вызревает ядро труппы, спаянное единством сценической техники и художественных интересов. Именно такой путь прошли и Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, и Вторая студия МХТ (бывшая школа Массалитинова), и Студия имени Евг. Вахтангова, и Студия Малого театра. Без педагогического элемента — воспитания актера — никакая студия не могла бы вырасти в самостоятельный театральный организм. Все студии всегда и до сих пор стремились и стремятся к „единству техники“ и „единству стиля“.
Конечно же, все студии проходили или не проходили „роковую черту“ — тот момент, когда студия должна была стать театром. И в тех из них, где „студийность“ приводила к кастовой замкнутости, отъединенности, своеобразном ощущении „избранности“ с ее обособленным миром, — в этих студиях, как правило, происходило медленное умирание и угасание студийного духа, так и не развернувшегося в театр. В Художественном театре, безусловно, уже было выработано единое мироощущение, сопряженное с „единой волей“ К. С. Станиславского, создателя „системы“. Но рядом с мастером был человек, который вместе с ним прошел весь творческий путь по рождению „системы“, следовательно, он владел методами ее преподавания. Этим человеком был Л. А. Сулержицкий. Именно он лучше других понимал, что „система Станиславского“ была не только педагогической, что она отражала жажду примирения актера-лицедея с личной правдивостью актера-человека. Этическое оправдание лицедейства — это умение обнаружить и подчеркнуть внутреннюю правду жизни актера в образе, это преодоление лжи всякого лицедейства. „Система“ представляла собой единство технических приемов и их этического и эстетического оправдания. Но ее необходимо было проверить на практике.
Собственно „проверка на практике“ велась с группой молодых актеров вне стен МХТ — Станиславский и Сулержицкий работали с ними в маленьком помещении кинотеатра „Люкс“. Именно там возник спектакль в режиссуре Р. В. Болеславского „Гибель „Надежды““ Хейерманса. Этот спектакль, показанный публике и лично К. С. Станиславскому 15 января 1913 года, и был началом Первой студии МХТ. В этой студии было не много элементов бунтарства, так как цель ее была принципиально иная: не конфликт с Московским Художественным, но углубление и уточнение приемов „большого театра“. Студия начал работу без каких бы то ни было деклараций и манифестов, не имела никаких лозунгов, кроме единственного — „система Станиславского“. Но важную роль в жизни студии играл ее руководитель — Леопольд Антонович Сулержицкий, ибо влияние его личности на студийцев далеко не ограничивалось его непосредственно сценическими делами. „Он был в равной мере учителем жизни и учителем сцены… Учительство, проповедничество лежали в существе его таланта… Людей театра он заставлял жить и в театре и вне театра другой жизнью, чем они жили обычно… Потому и нужна была форма студии — форма содружества и тесного, замкнутого сближения, — чтобы полнее и сосредоточеннее передать зрителю то, что Сулержицкий нес с собой и что он будил в ощущениях тех, с кем работал“ (Б. Алперс). Станиславский считал, что одной из главных жизненных целей Сулержицкого было создание „общего дела, общих целей, общего труда и радостей“, что он так хотел „бороться с пошлостью, насилием и несправедливостью, служить любви и природе, красоте и Богу“. Итак, в основе студии лежали внеэстетические задачи. Сулержицкий все время размышлял об этике и действенном значении искусства. Сулержицкий был толстовец и являлся не редким гостем Ясной Поляны, но при этом не чужд был и авантюризму. „Мудрым ребенком“ называл его Толстой. А Сулержицкий включил театр в свою жизнь с той же легкостью, как ранее предпринял поездку к духоборам, как служил матросом на корабле. Его в театре звали Сулер. „Сулер — беллетрист, певец, художник“, „Сулер — революционер, толстовец, духобор“, „Сулер — капитан, рыбак, бродяга, американец“ — так называл его Станиславский в своих воспоминаниях. Он же говорил: „Сулер принес с собой в театр огромный багаж свежего, живого духовного материала, прямо от земли. Он собирал его по всей России, которую он исходил вдоль и поперек с котомкой за плечами… Он принес на сцену настоящую поэзию прерий, деревни, лесов и природы… Он принес девственно-чистое отношение к искусству, при полном неведении его старых, изношенных и захватанных актерских приемов ремесла, с их штампами, трафаретами, с их красивостью вместо красоты, с их напряжением вместо темперамента, с сентиментальностью вместо лиризма, с вычурной читкой вместо настоящего пафоса возвышенного чувства“.
Станиславский считал его хорошим педагогом, его действительно любили студийцы и с трепетом выполняли все его указания. Во время летних каникул, проживая у него на даче в Крыму, учитель требовал от них не только творчества, но и труда, самого простого и элементарного физического труда. А „Систему“ Сулержицкий тоже преподавал им не как техническое средство, но как помощь в формировании мировоззрения. Он умел пробудить в актере творческий огонь, умел воспитывать рефлекторную, эмоциональную возбудимость. Он умел научить верить в жизнь. Сулержицкий предпочитал в Студии, прежде всего, педагогическо-воспитательную работу, а не режиссерскую. Для него именно актер всегда находился в центре театрального искусства. Сулержицкий разделял полностью взгляды Станиславского относительно „театра переживания“. Но при этом он резко отрицательно относился к истерии на сцене, к которой могла увлечь все та же „система переживания“: „Передавать на сцене истерические образы, издерганные души тем, что актер издергает себе нервы, на общем тоне издерганности играет весь вечер, заражая публику своими расстроенными нервами, — прием совершенно неверный, не дающий радости творчества ни актеру, ни зрителям, — хотя прием этот и сильно действует, но тут действуют больные нервы актера, а не художественное восприятие образа“. Эти слова и сегодня звучат чрезвычайно актуально на фоне распространенного именно истеричного типа актерской игры. На одном из спектаклей студии в публике произошла истерика — Сулержицкий был страшно возмущен и обвинил актеров в том, что их истеризм не есть результат глубоких переживаний, что они только внешне раздражили нервы зрителей. Тем самым Сулержицкий одним из первых в театре своего времени провел резкую черту между здоровым психологизмом искусства и болезненным истеризмом, который может выдаваться за „углубленный психологизм“.