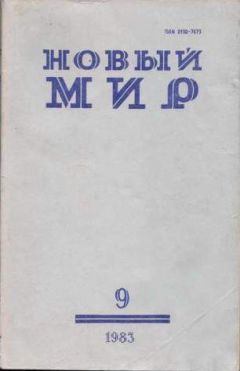Юрий Абрамов - 100 Великих Книг
Как бы ни смягчал Мольер отдельные разоблачительные фразы, как бы ни вычеркивал наиболее огнестрельные из них — ослиные уши лицемера-церковника продолжали торчать в каждом акте крамольной пьесы. Отмыть и обелить святошу никак не удавалось. Кто же он такой — Тартюф, переполошивший все осиное гнездо? Отпетый негодяй и проходимец (в конце комедии обнаруживается, что он вообще скрывается от правосудия под чужим именем). Но чтобы замести следы былых преступлений, ханжа надел маску благочестивого католика. Его речь наполнена елейными оборотами и призывами к благочестивой жизни. Тем самым он втерся в доверие к безвольному простаку Оргону, который взахлеб расхваливает своего «друга»:
Я повстречался с ним — и возлюбил навечно…
Он в церкви каждый день молился близ меня,
В порыве набожном колени преклоня.
Он привлекал к себе всеобщее внимание:
То излетали вдруг из уст его стенанья,
То руки к небесам он воздымал в слезах,
А то подолгу ниц лежал, лобзая прах;
Когда ж я выходил, бежал он по проходу,
Чтобы в притворе мне подать святую воду.
«…»
Вняв небесам, приют я предложил ему,
И счастье с той поры царит в моем дому…
Тартюф появляется на сцене не сразу и, разумеется, под маской благочестия. Первое, что он делает, это достает платок, чтобы набросить его на приоткрытую грудь служанки:
… Прикрой нагую грудь,
Сей приоткрыв предмет, ты пролагаешь путь
Греховным помыслам и вожделеньям грязным.
Но уже в следующей сцене святоша сбрасывает личину и принимается настойчиво соблазнять жену своего благодетеля:
Как я ни набожен, но все же я мужчина.
И сила ваших чар, поверьте, такова,
Что разум уступил законам естества. «…»
Нет, я любовь свою
От любопытных глаз надежно утаю:
Ведь сам я многое теряю при огласке,
А потому мне честь доверьте без опаски.
Своей избраннице я в дар принесть бы мог
Страсть — без худой молвы, услады — без тревог.
Развязка оказалась быстрой и плачевной. Добившись от сумасбродного Оргона согласия на брак с его дочерью и получив — по законам комедийного жанра — дарственную на дом и имущество, лицемер-развратник попытался выгнать все приютившее его семейство вон. К тому же настрочил на Оргона донос королю. Последний же, как «бог из машины», обеспечил счастливую развязку всей комедии и наказание мошенника Тартюфа:
Наш государь — враг лжи. От зоркости его
Не могут спрятаться обман и плутовство.
Он неусыпную являет прозорливость
И, видя суть вещей, казнит несправедливость.
Не подчиняется он голосу страстей,
Не знает крайностей великий разум сей.
Еще большим врагом лжи был автор, написавший эти слова. Потому-то век Короля-Солнца с равным основанием именуют теперь и веком Мольера.
60. ВОЛЬТЕР
«КАНДИД»
Век Просвещения дал человечеству целую плеяду блестящих писателей и мыслителей-энциклопедистов. Но лишь имя одного из них сделалось нарицательным уже при жизни и фактически — олицетворением самой эпохи. Это — Вольтер (на самом деле — псевдоним; по рождению его звали Франсуа-Мари Аруэ). Долгое время слово «вольтерианец» было синонимом вольнодумца.
Вольтер написал невероятное множество произведений — драм, трагедий, комедий, повестей, поэм, других стихотворных шедевров, памфлетов, сказок, притч, исторических сочинений и философских трактатов, не говоря уж о богатейшем эпистолярном наследии (изданная корреспонденция занимает несколько десятков томов), а письма в ту пору играли роль гораздо большую, чем нынешние газеты. Но самую громкую славу Фернейскому мудрецу (так его именовали по альпийскому пристанищу) принесла сравнительно небольшая «философская повесть» «Кандид». Впоследствии Герберт Уэллс даже один из своих романов посвятил — «Бессмертной памяти Кандида».
У самой повести, или, как еще выражаются, — маленького романа, занимающего менее ста страниц текста, — тоже непростая судьба. Книга была написана тайком даже от ближайших друзей (некоторые литературоведы утверждают — всего за три дня, хотя более правдоподобна другая цифра — три недели), издана анонимно и тотчас же по приговору суда была сожжена рукою палача на площади в Женеве. Естественно, это только прибавило популярности очередному Вольтерову шедевру: в первый же год (1759), не успел еще догореть костер на женевской площади, было выпущено в разных странах не менее 13 изданий, и книга надолго стала европейским бестселлером.
Имя главного героя в переводе с французского означает Простодушный. Действие повести носит гротескный характер и разворачивается в различных странах Старого и Нового Света, куда герои переносятся чуть ли не молниеносно. Текст изобилует условностями и закодированностью: так, подданные прусского короля именуются «болгарами», а французы — «аварами». Между теми и другими идет кровопролитная бойня, воспроизводящая с почти репортерской точностью реалии Семилетней войны, что позволяет Вольтеру выступить с резкими антимилитаристскими заявлениями, разоблачающими ужасы и пагубность всяких войн вообще. Поначалу в повести задается вроде бы ироничный тон:
Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ.
Но Вольтер быстро отходит от иронии и обнажает подлинные «прелести» войны:
Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; там девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами.
Подобные картины противоречат главной идеи повести, имеющей подзаголовок «Оптимизм». Вольтер так определяет данный термин устами главного героя: «… Это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо». Носителем такого безудержного оптимизма как раз и выступает простодушный Кандид, проповедующий принцип своего учителя Панглосса (дословно — Всезнающий): «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Казалось бы, все силы и стихии природы, все изощренное зло, до какого только смог додуматься человек, объединились с одной-единственной целью — доказать Кандиду обратное: в мире все плохо и только плохо, лучше никогда не будет, может быть только еще хуже. Но не таков неунывающий герой Вольтера; он знает и верит: как бы ни было ему плохо, лучшее, конечно, — впереди!
В «Кандиде» нагромождено такое количество самых невероятных приключений, что иной автор смог бы без труда растянуть повествование на два — а то и на три — увесистых тома. Вольтер передвигает своего героя по морю и по суше свободно и размашисто, точно шахматную фигуру. Территории Европы мало для его похождений, и волею автора Кандид перемещается в Южную Америку. А здесь: одна глава — Буэнос-Айрес, другая — Парагвай, третья — Суринам, четвертая — Эльдорадо, где Вольтер воссоздает проект совершенного утопического государства. И вновь Европа — Франция, Англия, Венеция, Константинополь.
А вслед за Кандидом (а иногда и впереди него) столь же невероятным по быстроте способом перемещается его возлюбленная Кунигунда. Ее история служит еще большим контрастом оптимистическому настрою повести. Обесчещенная, едва не прирезанная пруссаками и после долгих издевательств проданная ими, как военная добыча, она до самого конца повествования переходит из рук в руки, служа наложницей то лиссабонскому инквизитору, то богатому еврею, то испанскому губернатору Буэнос-Айреса, то турецкому паше. И лишь под занавес, постаревшая и подурневшая дочь вестфальского барона, становится женой Кандида. Счастливый конец! Он дает повод Вольтеру еще раз пофилософствовать насчет смысла жизни и возможности совершенствования общественного организма.
Главные мысли автора концентрируются в заключительных аккордах повести. Точнее — в двух знаменитых диалогах между Кандидом и выплывшим из небытия Панглоссом:
— Ну хорошо, мой дорогой Панглосс, — сказал ему Кандид, — когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали думать, что все в мире идет к лучшему?