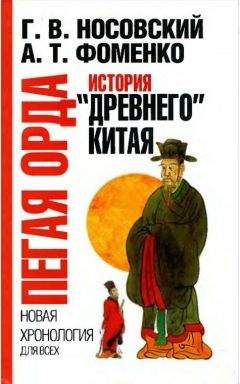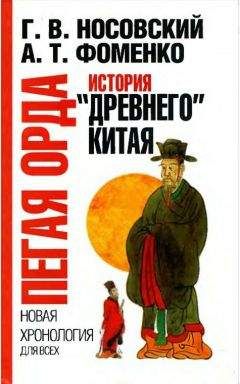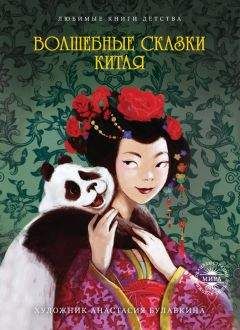П. Кочеткова - ПАЛАЧИ И КИЛЛЕРЫ.
Во время этого обсуждения Каляев, до тех пор молчавший и слушавший Азефа, вдруг сказал:
— Есть способ не промахнуться.
— Какой?
— Броситься под ноги лошадям. Азеф внимательно посмотрел на него:
— Как броситься под ноги лошадям?
— Едет карета. Я с бомбой кидаюсь под лошадей. Или взорвется бомба, и тогда остановка, или, если бомба не взорвется, лошади испугаются — значит, опять остановка. Тогда уже дело второго метальщика.
Все помолчали. Наконец Азеф сказал:
— Но ведь вас наверно взорвет.
— Конечно.
План Каляева был смел и самоотвержен. Он действительно гарантировал удачу, и Азеф, подумав, сказал:
— План хорош, но я думаю, что он не нужен. Если можно добежать до лошадей, значит, можно добежать и до кареты, значит, можно бросить бомбу и под карету или в окно. Тогда, пожалуй, справится один.
На таком решении Азеф и остановился. Было решено также, что Каляев и Сазонов примут участие в покушении в качестве метальщиков.
После одного из таких совещаний я пошел гулять с Сазоновым но Москве. Мы долго бродили по городу и наконец присели на скамейку у храма Христа-спасителя, в сквере. Был солнечный день, блестели на солнце церкви.
Мы долго молчали. Наконец я сказал:
— Вот, вы пойдете и, наверно, не вернетесь…
Сазонов не отвечал, и лицо его было такое же, как всегда: молодое, смелое и открытое..
— Скажите, — продолжал я, — как вы думаете, что будем мы чувствовать после… после убийства?
Он, не задумываясь, ответил:
— Гордость и радость.
— Только?
— Конечно, только.
И тот же Сазонов впоследствии мне писал с каторги: "Сознание греха никогда не покидало меня". К гордости и радости примешалось еще другое, нам тогда неизвестное чувство.
В Сестрорецк ко мне приехала Дора Бриллиант, Мы ушли с нею в глубь парка, далеко от публики и оркестра. Она казалась смущенной и долго молчала, глядя прямо перед собою своими черными опечаленными глазами.
— Веньямин!
— Что?
— Я хотела вот что сказать…
Она остановилась, как бы не решаясь окончить фразу.
— Я хотела… Я хотела еще раз просить, чтоб мне дали бомбу.
— Вам? Бомбу?
— Я тоже хочу участвовать в покушении.
— Послушайте, Дора…
— Нет, нет не говорите… Я так хочу… Я должна умереть…
Я старался ее успокоить, старался доказать ей, что в ее участии, нет нужды, что мужчина справится с заданием метания бомбы лучше, чем она; наконец, что если бы ее участие было необходимостью, то — я уверен — товарищи обратились бы к ней. Но она настойчиво просила передать ее просьбу Азефу, и я должен был согласиться.
Вскоре приехали Сазонов и, Азеф, и мы опять собрались вчетвером на совещание.
На этот раз Каляева не было, зато присутствовал Швейцер. Я передал товарищам просьбу Бриллиант.
Наступило молчание. Наконец Азеф медленно и, как всегда, по внешности равнодушно сказал:
— Егор, как ваше мнение?
Сазонов покраснел, смешался, развел руками, подумал и сказал нерешительно:
— Дора такой человек, что если пойдет, то сделает хорошо… Что же я могу иметь против? Но…
Тут голос осекся.
— Договаривайте, — сказал Азеф.
— Нет, ничего… Что я могу иметь против?
Тогда заговорил Швейцер. Спокойно, отчетливо и уверенно он сказал, что Дора, по его мнению, вполне подходящий человек для покушения и что он не только ничего не имеет против ее участия, но, не колеблясь, дал бы ей бомбу.
Азеф посмотрел на меня:
— А вы, Веньямин?
Я сказал, что я решительно против непосредственного участия Доры в покушении, хотя также вполне в ней уверен.
Я мотивировал свой отказ тем, что, по моему мнению, женщину можно выпускать на террористический акт только тогда, когда организация без этого обойтись не может. Так как мужчин довольно, то я настойчиво просил бы ей отказать.
Азеф, задумавшись, молчал. Наконец, он поднял голову:
— Я не согласен с вами… По-моему, нет основания отказать Доре… Но, если вы так хотите… Пусть будет так.
15 июля между 8 и 9 часами я встретил на Николаевском вокзале Сазонова и на Варшавском — Каляева. Они были одеты так же, как и неделю назад: Сазонов — железнодорожным служащим, Каляев — швейцаром. Со следующим поездом с того же Варшавского вокзала приехали из Двинска, где они жили последние дни, Боришанский и Сикорский.
Пока я встречал товарищей, Дулебов у себя на дворе запряг лошадь и проехал к Северной гостинице, где жил тогда Швейцер. Швейцер сел в его пролетку и к началу десятого часа раздал бомбы в установленном месте — на Офицерской и Торговой улицах за Мариинским театром. Самая большая, двенадцатифунтовая бомба предназначалась Сазонову. Она была цилиндрической формы, завернута в газетную бумагу и перевязана шнурком. Бомба Каляева была обернута в платок.
Каляев и Сазонов не скрывали своих снарядов. Они несли их открыто в руках. Боришанский и Сикорский спрятали свои бомбы под плащи.
Передача на этот раз прошла в образцовом порядке. Швейцер уехал домой, Дулебов стал у технологического института по Загородному проспекту. Здесь он должен был ожидать меня, чтобы узнать о результатах покушения. Мацеевский стоял со своей пролеткой на Обводном канале. Остальные, т. е. Сазонов, Каляев, Боришанский, Сикорский и я, собрались у церкви Покрова на Садовой.
Отсюда метальщики один за другим, в условленном порядке — первым Боришанский, вторым Сазонов, третьим Каляев и четвертым Сикорский — должны были пройти по Английскому проспекту и Дровяной улице к Обводному каналу мимо Балтийского и Варшавского вокзалов, выйти навстречу Плеве на Измайловский проспект.
Время было рассчитано так, что при средней ходьбе они должны были встретить Плеве по Измайловскому проспекту от Обводного канала до 1-й роты. Шли они на расстоянии сорока шагов один от другого. Этим устранялась опасность детонации от взрыва.
Боришанский должен был пропустить Плеве мимо себя и затем загородить ему дорогу обратно на дачу. Сазонов должен был бросить первую бомбу.
Был ясный солнечный день. Когда я подходил к скверу Покровской церкви, то увидел такую картину. Сазонов, сидя на лавочке, подробно и оживленно рассказывал Сикорскому о том, как и где утопить бомбу.
Сазонов был спокоен, и, казалось, совсем забыл о себе.
Сикорский слушал его внимательно. В отдалении на лавочке с невозмутимым, но обыкновению, лицом сидел Боришанский, еще дальше, у ворот церкви, стоял Каляев и, сняв фуражку, крестился на образ.
Я подошел к нему:
— Янек!
Он обернулся, крестясь: — Пора? Я посмотрел на часы. Было двадцать минут десятого.
— Конечно, пора. Иди.
С дальней скамьи лениво встал Боришапский: он не спеша пошел к Петергофскому проспекту. За ним поднялись Сазонов и Сикорский. Сазонов улыбнулся, пожал руку Сикорскому и быстрым шагом, высоко подняв голову, пошел за Боришанским. Каляев все еще не двигался с места.
— Янек.
— Ну, что?
— Иди.
Он поцеловал меня и торопливо, своей легкой и красивой походкой, стал догонять Сазонова. За ним медленно пошел Сикорский. Я проводил их глазами. На солнце блестели форменные пуговицы Сазонова. Он нес свою бомбу в правой руке между плечом и локтем. Было видно, что ему тяжело нести.
Я повернул назад по Садовой и вышел по Вознесенскому на Измайловский проспект с таким расчетом, чтобы встретить метальщиков на том же промежутке между Первой ротой и Обводным каналом.
Уже по внешнему виду улицы я догадался, что Плеве сейчас проедет. Пристава и городовые имели подтянутый и напряженно выжидающий вид. Кое-где на углах стояли филеры.
Когда я подошел к седьмой роте Измайловского полка, я увидел, как городовой на углу вытянулся во фронт. В тог же момент на мосту через Обводной канал я заметил Сазонова. Он шел, как и раньше, — высоко подняв голову и держа у плеча снаряд.
И сейчас же сзади меня раздалась крупная рысь, и мимо промчалась карета с вороными конями. Лакея на козлах не было, но у левого заднего колеса ехал сыщик, как оказалось впоследствии, агент охранного отделения Фридрих Гартман. Сзади ехали еще двое сыщиков в собственной запряженной вороным рысаком пролетке. Я узнал выезд Плеве.
Прошло несколько секунд. Сазонов исчез в толпе, но я знал, что он идет теперь по Измайловскому проспекту параллельно Варшавской гостинице. Эти несколько секунд показались мне бесконечно долгими. Вдруг в однообразный шум ворвался тяжелый и грузный, странный звук. Будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же секунду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла. Я увидел, как от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, почти черного по краям дыма.
Столб, этот, все расширяясь, затопил на высоте пятого этажа всю улицу.
Он рассеялся так же быстро, как и поднялся. Мне показалось, что я видел в дыму какие-то черные обломки.