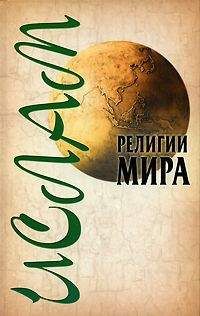Геннадий Иванов - 100 великих писателей
Нина Берберова, принадлежащая к эмигрантскому поколению Набокова, в своей книге «Курсив мой» дает представление и о личности Владимира Набокова (не очень расходящееся с другими), и о «весе» его книг (радикально расходящееся с другими мнениями. «Все наши традиции в нем обрываются…» — писал Георгий Адамович): «Я постепенно привыкла к его манере… не узнавать знакомых, обращаться, после многих лет знакомства, к Ивану Ивановичу как к Ивану Петровичу, называть Нину Николаевну — Ниной Александровной, книгу стихов „На западе“ публично назвать „На заднице“, смывать с лица земли презрением когда-то милого ему человека, насмехаться над расположенным к нему человеком печатно (как в рецензии на „Пещеру“ Алданова), взять все, что можно, у знаменитого автора и потом сказать, что он никогда не читал его. Я все это знаю теперь, но я говорю не о нем, я говорю о его книгах. Я стою „на пыльном перекрестке“ и смотрю „на его царский поезд“ с благодарностью и с сознанием, что мое поколение (а значит, и я сама) будет жить в нем, не пропало, не растворилось между Биянкурским кладбищем, Шанхаем, Нью-Йорком, Прагой; мы все, всей нашей тяжестью, удачники (если таковые есть) и неудачники (целая дюжина), висим на нем. Жив Набоков, значит жива и я!» (Курсив Н. Берберовой.)
В Советский Союз книги Набокова начали пробираться поодиночке тайными тропами где-то в семидесятых годах. А уже в начале восьмидесятых контрабандный Набоков издательства «Ardis» (наряду с не менее контрабандным Венедиктом Ерофеевым — «Москва — Петушки» издательства «YMCA-Press») стал настольной книгой каждого уважающего себя студента Литературного института имени А. М. Горького. Многие «заняли» у Набокова любовь к декоративной фразе (когда скромность события неадекватна стилистическому блеску), склонность к пародийности, страсть к каламбурам («всегда с цианистым каламбуром наготове», как набоковский герой «Весны в Фиальте»), коллекционированию язвительных наблюдений, да и сам стиль «рассеянного» поведения: называть Ивана Ивановича Иваном Петровичем.
Это уже была новая генерация писателей, которая дождется перестройки (то есть свободы самовыражения — пожалуй, пока единственного ее приобретения) в репродуктивном творческом возрасте, но дождется и возвращения на родину книг — первоисточников их укромных вдохновений, и эти книги, увы, поколеблют многие авторитеты.
Тексты Набокова действительно обладают прелестью (от «прельщать»), читать их «почти физическое удовольствие», как справедливо заметил Георгий Адамович; человеку «с литературщинкой» они внушают иллюзию, что по Набокову можно научиться тому, как приручить слово и перейти с ним на ты, не платя за это кровью — по русской традиции («Страшное слышится мне в судьбе русских писателей!», — воскликнул Гоголь, а Владислав Ходасевич продолжил тему в статье «Кровавая пища». Желающие могут ознакомиться). Набоков и в самом деле единственный из значительных русских писателей, которому удалось прожить успешную жизнь.
Владимир Владимирович Набоков родился в Санкт-Петербурге 10 (22) апреля 1899 года — в один день с Шекспиром и через 100 лет после Пушкина, как он любил подчеркивать, а свою родословную довольно выразительно описал в автобиографическом романе «Другие берега»: «…мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами… Среди моих предков много служилых людей, есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн, есть сибирский золотопромышленник и миллионщик (Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны), есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С.-Петербургской крепости — той, в которой сидел супостат Достоевский (Иван Николаевич Набоков был также и председателем следственной комиссии по делу петрашевцев, по которому проходил Федор Достоевский. — Л.К.)… есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец)».
Дед писателя был министром юстиции при Александре III, а отец, известный юрист, — один из лидеров (наряду с Павлом Николаевичем Милюковым) Конституционно-демократической (кадетской) партии, член Государственной думы.
Древняя родословная «от крестоносцев» была причиной многих набоковских вдохновений, давала «удивительное ощущение своей избранности», как его Мартыну — русскость, и рождала особый холодновато-насмешливый набоковский стиль. Если Руссо говорил: «Мой Аполлон — это гнев», Набоков мог бы сказать: «Мой Аполлон — это избранность». В своей несколько ревнивой книге «В поисках Набокова» Зинаида Шаховская все же верно подметила: «…как будто Набоков никогда не знал… дыхания земли после половодья, стука молотилки на гумне, искр, летящих под молотом кузнеца, вкуса парного молока или краюхи ржаного хлеба, посыпанного солью… Все то, что знали Левины и Ростовы, все, что знали как часть самих себя Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин… Отсутствует в набоковской России и русский народ, нет ни мужиков, ни мещан. Даже прислуга — некий аксессуар, а с аксессуаром отношений не завяжешь… Промелькнет в воспоминаниях „синеносый Христофор“, о котором мы ничего не узнаем, кроме его синего носа, два лакея безо всякого отличительного признака, просто: „один Иван сменил другого Ивана“».
В самом деле, трудно представить в случае Набокова известную историю с лакеем не менее родовитого Тургенева — Захаром, пописывающим на досуге повестушки и дающим литературные советы своему барину, которыми тот, надо сказать, не всегда пренебрегал. Все это не к вопросу «о нравственности», а к вопросу о стиле.
Набоков-старший в быту был англоманом, Владимира в семье называли на английский манер — Лоди и английскому языку обучили прежде русского. Большая домашняя библиотека, помимо мировой классики содержащая все новинки не только художественной, но и научно-популярной литературы, журналы по энтомологии (пожизненная набоковская страсть к бабочкам), прекрасные домашние учителя (уроки рисования давал известный график и театральный художник Мстислав Добужинский), шахматы, теннис, бокс — сформировали круг интересов и будущих тем. На всю жизнь Набоков останется поглотителем самых разных книг, словарей и будет поражать окружающих универсальностью своих знаний.
В 1911 году Владимира отдали в одно из самых дорогих учебных заведений России — Тенишевское училище, хотя оно и славилось сословным либерализмом. «Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, „бенц“ или „уользлей“, подан, чтобы мчать меня в школу, — вспоминал Набоков в „Других берегах“. — Первый… был мышиного цвета ландолет. (А. Ф. Керенский просил его впоследствии для бегства из Зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба, и стара и едва ли годится для исторических поездок…)».
Директором Тенишевского училища был одаренный поэт Владимир Васильевич Гиппиус. В шестнадцатилетнем возрасте Владимир Набоков, под впечатлением первой влюбленности, и сам начал писать «по две-три „пьески“ в неделю» и в 1916 году за свой счет издал первый поэтический сборник. Владимир Гиппиус, которому он попал в руки, «подробно его разнес» в классе под аккомпанемент общего смеха. «Его значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина Зинаида (поэтесса Зинаида Гиппиус. — Л.К.), встретившись на заседании Литературного фонда с моим отцом… сказала ему: „Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет“, — своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть» («Другие берега»). Позже и сам автор назвал свой первый поэтический опыт «банальными любовными стихами».
Сразу же после октябрьского переворота, в ноябре 1917 года, Набоков-старший отправил семью в Крым, а сам остался в столице, надеясь, что еще можно предотвратить большевистскую диктатуру. Вскоре он присоединился к семье и вошел в Крымское краевое правительство как министр юстиции.
В Ялте Владимир Набоков встретился с поэтом Максимилианом Волошиным и благодаря ему познакомился с метрическими теориями Андрея Белого, которые оказали на его творчество большое влияние, что не помешало уже «увенчанному» Набокову в американском интервью сказать: «Ни одна вера, ни одна школа не имели на меня влияния».
Несмотря на то что красные бригады уже осваивались в Крыму — «На ялтинском молу, где Дама с собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их…» — «какая-то странная атмосфера беспечности обволакивала жизнь», как вспоминал Набоков. Многие его ровесники вступали в Добровольческую белую армию. Владимир также собирался совершить свой подвиг (который совершит в романе «Подвиг»: его герой-эмигрант уезжает в Россию и гибнет там), но, по его словам, «промотал мечту»: «…я истратился, когда в 1918 году мечтал, что к зиме, когда покончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию… но зима прошла — а я все еще собирался, а в марте Крым стал крошиться под напором красных и началась эвакуация. На небольшом греческом судне „Надежда“ с грузом сушеных фруктов, возвращавшемся в Пирей, мы в начале апреля вышли из севастопольской бухты. Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, последний звук России, стал замирать… и я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом…» («Другие берега»),