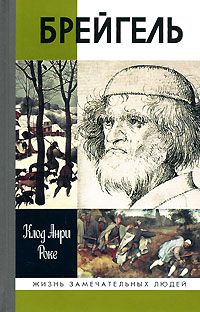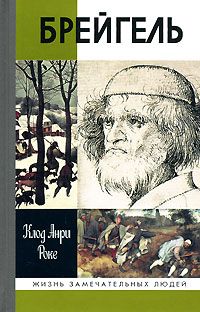Луи Повель - Мсье Гурджиев
ХОТЯ мне уже пришлось целый год учиться в Париже, привыкнуть к новой жизни было непросто. Всю осень и зиму я постоянно спотыкалась и на что-то натыкалась, пока, наконец не вошла в ритм парижской жизни. С гурджиевской группой мы впервые соприкоснулись, когда весна была уже в разгаре. Совершенно случайно мы с Пат познакомились с человеком, который нам сообщил, что его «хорошая знакомая» уже два года работает. Она будет счастлива, заверил он, представить нас некой, скажем, г-же Блан, важной персоне в группе. «Добрая знакомая» поведала нам, что она «проститутка»… «Не подумайте, не ради денег. Поверьте, у меня на счету десять тысяч долларов в здешнем банке. Главное власть. И улыбнулась во весь свой лягушачий рот. Обожаю властвовать над мужчинами». Знаменательно, что наше знакомство с парижской группой началось с такого вот неожиданного признания.
А мое знакомство с г-жой Блан с короткого телефонного разговора. «Добрая знакомая», изрядно поморочив нам голову, все-таки дала ее адрес и телефон. Я сразу сообразила, что в группе вообще принято то, что американцы называют beating around the bush (наводить тень на плетень). Таков обычай гурджиевской группы. «Да» означает «нет», «нет» означает «да», а в результате может оказаться и «возможно», и «никогда». В группе не бывает ночи или дня, только восход и закат. Прекрасно помню первый разговор с дамой, которая должна была приобщить меня к работе:
«Алло, мадам Блан?»
«Слушаю вас», отвечает она ледяным тоном. (Кто, мол, осмелился меня побеспокоить?)
«Не я, не я», пищал во мне какой-то испуганный мы-шонок, внешне же я пыталась сохранить приличествующий моменту ровный тон. (Позже, поработав в группе, я уже с легкостью ломала комедию.) «Меня зовут Франсес Рудольф. Мисс «Добрая знакомая» вам говорила обо мне и о моей подруге Пат Магуайр. Когда к вам можно зайти?» После глубокого и продолжительного молчания свидание было назначено: на будущей неделе днем. После чего сухое «до свидания». И тут же гудки. Слегка растерянная, я все же надеялась, что при личной встрече она окажется посимпатичней. Передала Пат нашу беседу.
«Ах, как можно судить по телефонному разговору? Ну, какая она, по-твоему?» По голосу г-жа Блан представлялась сухопарой брюнеткой, ростом выше среднего, в черепаховых очках, одетой в костюм строгого покроя… Обладательница подобного голоса могла быть только такой. Уже не помню точно, как ее представляла Пат, но совершенно иначе. И обе мы ошиблись. То же и с работой. Да и вообще меня ожидало много «сюрпризов». Случалось, кто-то из посвященных улыбался мне, поглаживал по плечу, нежно пожимал руку, а при следующей встрече глядел, будто видит впервые. Даже и напомни я о себе, все бесполезно. (Непростительная дерзость, если человек явно хочет позабыть, что он тебя видел и о тебе слышал.)
Первая же встреча с г-жой Блан хорошо продемонстрировала мне, сколь изменчив нрав посвященных. Что может быть упоительней парижского мая, особенно когда тебе двадцать лет и ты закончила школу? Кажется, впереди столько приключений, а самое интересное то, на которое мы решились, когда майским деньком, поднявшись на верхний этаж по красной лестнице, оказались у двери г-жи Блан.
Впустила нас кухарка. Очень странная женщина: говорила она только в крайних случаях, причем стремилась обойтись наименьшим количеством слов, к тому же произнесенных безо всякого выражения. Потом я заметила, что кухарка целыми днями что-то готовила. Как было не заглянуть в кухню, если ее дверь находилась прямо рядом с входной, слева от нее, причем почти всегда приоткрытая? Я, было заподозрила, что г-жа Блан по примеру Гурджиева устраивает какие-то экзотические застолья, но позже от своего предположения отказалась. Видимо, готовила кухарка только для г-жи Блан (которая никогда не показывала, что голодна) и ее домашних.
Кухарка указала перстом на дверь в глубине небольшой прихожей. И мы с Пат оказались в средних размеров гостиной, очень симпатичной. Солнечная, с балконом, откуда видны городские крыши и верхушки деревьев. Вдалеке высилась Эйфелева башня. Ожидая г-жу Блан (ее всегда приходилось ждать), мы успели оглядеть комнату. В углу стояло пианино с нотами сочинений Георгия Гурджиева на пюинтре, по обеим сторонам которого торчали две огромные черные свечи. («Почему черные?» соображала я, уверенная, что их непривычный цвет должен нечто означать. Впоследствии я заметила, что ноты всегда открыты на той же странице, свечи же, наоборот, постоянно меняют.) На пианино стояла очень выразительная фотография некой девушки с платком на голове. Веки ее были прикрыты, но как-то по-особому. В ней ощущалась могучая внутренняя сила и полная отрешенность от внешнего мира. Видимо, так могла выглядеть сама смерть девушка, целиком отрешенная от жизни, погруженная в сокровенное бытие своего духа. Эта фотография все время притягивала мой взгляд. На стенах висело множество довольно сносных картин и несколько акварелей. Интересней других был женский портрет работы Лапужада. Комната весьма уютно обставлена множество стульев, обитых в индийском стиле, американская софа. Я вышла на балкон, где стояли горшки с цветами и кустиками, разглядела и понюхала каждый. За этим занятием меня и застала появившаяся в комнате очень грузная женщина, ниже среднего роста, с белыми, серебристого отлива волосами, зачесанными назад. Такой оказалась, к моему удивлению, г-жа Блан. Я поспешно вернулась в гостиную.
«Вы ко мне? лицо расплылось в слащавой улыбке. Интересуетесь нашей работой?» Она так и лучилась доброжелательством, и я мгновенно успокоилась. «Чтo вы хотите?» Тон был многозначительный. Разъяснила как могла, хочу, мол, быть более подлинной, не такой легковесной, короче, хочу быть. И Пат пролепетала нечто в этом роде. Г-жа Блан покивала головой, затем несколько минут царило молчание. Мы словно сдавали вступитель- ный экзамен. Потом она сказала, что набирает группу «специально для англоязычных», куда и готова нас принять. Занятия начнутся через неделю. Затем ласково попрощалась и проводила до двери. Окрыленная, я буквально скатилась с пятого этажа по красной лестнице и выпорхнула на залитые солнцем парижские улицы. Мне казалось, что начинается настоящая жизнь.
ВООБЩЕ-ТО инстинкт самосохранения мне нечто подсказывал, но я не могла разобрать, что именно. Не прислушалась я и к предупреждению Гурджиева: «Кроме естественных, верных путей, возможны пути искусственные, способные привести только к временному улучшению, а бывают и вовсе ложные, которые могут полностью изменить личность, но не в лучшую сторону. Следуя им, человек тоже пытается подобрать ключ к четвертой комнате; бывает, это ему и удается, только что он там обнаружит? К примеру, что комната уже отперта, но коварной рукой смерти. В общем, в обоих этих случаях, как правило, она оказывается пустой». Согласно Гурджиеву, я была «одержима манией», суть которой в бесплодной попытке понять единственный смысл бытования на земле всех живых существ. И таким образом осознать цель человеческого существования. Я страстно желала обрести то, что Гурджиев назвал «богоподобием». Одержимая бесом, могла ли я прислушаться к внутреннему голосу, советовавшему мне оставаться всего лишь творением?
ПЕРВОЕ собрание было не таким, как я его себе представляла. Мне кажется, что прошло оно вообще молча. По крайней мере, ничего в голове не осталось. Да и сейчас, добросовестно роясь в памяти, я не могу припомнить, что говорила г-жа Блан на этом собрании. Да и на последующих. Все, что я запомнила, можно уложить в две фразы: «Расскажите, как вы работали предыдущую неделю?» и «Не забывайте о своей правой руке».
Впрочем, припоминаю пару небольших «происшествий». Как-то я призналась, что верю в спасительность молитвы. Что и произвело отвратительное впечатление на г-жу Блан. Другое приключилось в мае, на одном из еженедельных занятий. Г-жа Блан сказалась больной, поэтому мы собрались в ее спальне. Впервые я попала в ее святая святых. Больной она безусловно не выглядела, я же получила возможность спокойно разглядеть обитель своего духовного наставника, учителя. Спальня была просторнее, чем гостиная, и совсем в ином стиле. Стены бледно-лимонного цвета. Легкомысленной расцветки кровать помещалась в самом центре, напротив двери, ведущей в комнату, из окна которой видны крыши и верхушки деревьев. Я была просто очарована спальней, ведь в спальни к богатым я никогда доступа не имела. Подобное увидела впервые. Но гвоздем программы, разумеется, являлась сама г-жа Блан, возлежащая на своей огромной постели. Мизансцена была тщательно продумана. Мой стул, обитый кретоном, стоял слева от кровати. С этого места открывался прекрасный обзор. Первое, что меня поразило, обилие атласа. Видимо, к этой ткани г-жа Блан питала особое пристрастие. Массивные кресла, обитые розовым атласом. Покрывало на кровати из белого атласа в зеленый цветочек. На г-же Блан кофточка из голубого атласа, опирается она на подушки из какого-то сверкающего атласа. Во-вторых, меня поразили дверные ручки. Все три из настоящего фарфора, расписанные потрясающими цветами и какими-то позолоченными спиралями. Обычные ручки, разумеется, необходимо было заменить на такие вот, красивые, фарфоровые. Множество фотографий Гурджиева, несколько детских фотографий, в том числе дочери г-жи Блан. На маленьком столике груда книг, бумаг, рукописей. Над кроватью висела иконка с изображением Христа. Я никак не могла оторваться от искусной вышивки на покрывале. Г-жа Блан чувствовала себя королевой, восседающей на троне. (По сей день, размышляю, что за королева: «королева Пчела» или «королева Кобра»?) Обращаясь ко мне (о чем говорилось не помню), она вдруг прервала себя произнесенной с невероятным отвращением фразой: «Ну как вы сидите? Неужели так трудно посидеть хоть пять минут неподвижно!» После чего потеряла ко мне интерес и нашла другого собеседника. Казалось, она и вовсе обо мне забыла. Я же старалась сидеть как следует: ступни плотно прижаты к полу, ладони на коленях, при этом пыталась усидеть неподвижно. И не то чтобы я с собой боролась. Скорей, это была безнадежная борьба с г-жой Блан. Сколько она продолжалась? Даже не знаю. Когда у меня поплыло перед глазами, г-жа Блан, обернувшись ко мне, бросила с иронической усмешкой: «Ну, достаточно». В тот же миг я упала со стула. Спину невероятно ломило. Чтобы не выдать боли, я крепко стиснула зубы. «Чувствуете, что вы были не такой, как обычно, сказала она. Вы делали усилие». (Ходовое выражение в группе, при том, что не разъяснялось, зачем непременно делать усилие. Как я поняла, усилие нужно для того, чтобы быть, быть, чтобы совершать. Но кем и зачем быть, что и зачем совершать этого мне так и не поведали.) И все же слова г-жи Блан возымели некоторое действие. Моя ответная вспышка потребовала от меня некоторого усилия, что уже неплохо. Но что дает усилие, я понять не могла. Моя маленькая победа казалась бессмысленной и ненужной.