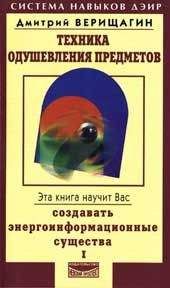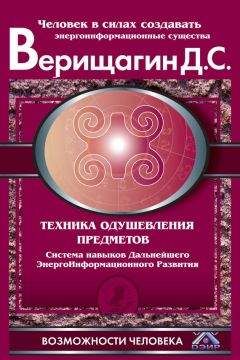Бодхи - Путь к ясному сознанию
Практикующий ППП безусловно занимается и «медитацией» — он устраняет омрачения (а порой и не только омрачения, а все восприятия подряд), «вслушивается» в то, что пробуждается, но при возникновении ОзВ испытывает резонирующее рж испытывать это ОзВ сильнее, чаще. Он отделяет это желание от механических, омраченных желаний, и, испытывая его, культивируя с помощью формальных практик, добивается очень высокой скорости упрочения привычки испытывать это ОзВ. При первом же проявлении нового ОзВ он вцепляется в него с помощью описаний и фиксаций. Более того, с помощью формальных практик он добивается устойчивых и интенсивных ОзВ, начинает испытывать новые ОзВ, возникают новые рж, начинается путешествие в мире ОзВ, причем для его осуществления не требуется делить жизнь на «практику» и «не-практику», что катастрофически снижает эффективность практики. Практикующий ППП может заниматься практикой 24 часа в сутки, причем любая ситуация является идеальной для него!
Глава 03–02: «Определение творчества и примеры»
Содержание:
03-02-01) «Нечто».
06-02-02) «Встреча».
06-02-03) «Брусника — вкусная ягода».
«Творчеством» я называю реализацию радостного желания создания таких слов, звуков, мыслей, образов и пр., которые ярко резонируют с ОзВ.
03-02-01)«Нечто»
Чарлз Дарвин родился в 1809 году. Это выдающийся ученый, в работе которого «Происхождение видов» была впервые сформулирована и разработана теория эволюции. Опубликованная в 1859 году, эта теория, несмотря на поддержку научной мысли того времени, подверглась ожесточенным нападкам со стороны богословов. Дарвину принадлежат и другие научные труды. Он похоронен в Вестминстерском аббатстве. Упаси господи стать вот таким вот абзацем в энциклопедии.
Когда сегодня я выходил из дома, я сразу почувствовал особый запах утра — этот запах свидетельствовал, этот запах напоминал, этот запах призывал к ответу.
Единящая мудрость есть неразумие, бессмысленность и глупость. Морализм, пиетизм, солипсизм, автоматизм, мясорубка, подоконник, мерцающий телевизор — этот ряд бесконечен, этот строй гипнотичен, этот порядок убийственен.
Проверяй деньги, не отходя от кассы. Покупатель всегда прав. Закон суров, но это закон. Не давай ему повода, не суйся куда не надо, не говори гоп, не буди лиха. Будь готов. Семь раз отмерь. Я люблю жизнь, я люблю нежность, я люблю потягиваться утром в постели, я люблю ощущать одиночество как спасительное страдание, в скорлупе которого нет-нет, да и блеснет серебряная нить, ведущая к неведомому.
Взгляните, как сочетаются желтые абажуры, старинная мебель, овальные картины в овальных рамках и свежий букет цветов в японской вазочке. Вот моя комнатка, располагайтесь поудобнее.
Я бы разгрыз зубами эти бетонные стены. Дайте, я съем эту вазу, этот халат с тапочками, эти райские кущи. Бешенство в одеждах смирения. Ярость безумная. Что думает собака, как растет сосна, где живет ежик — нас окружает очеловеченная природа, нас окружают омерзительные призраки сентиментальной немощи. Я вижу иначе. Собака — у нее влажный нос, вздымаются бока, хвост на грани взмаха, глаза лукавые. Сосна — у нее влажный нос, вздымаются бока, хвост на грани взмаха, глаза лукавые. Я вижу это все иначе. Я смотрю и в этом суть момента. Я не живу, и в этом жизнь, я не дышу, и в этом мое дыхание. А как можно иначе? Легкая улыбка, сорвавшаяся с глаз — проникает как дым костра — очистительно и больно.
Мы будем, мы станем, нас много, нас мало, их надо, семь на восемь, почему так сложно, а что — разве нет? Нет. По-моему — нет. Мы следим. Мы всегда следим, и наши следы зловонны, их вонь догоняет нас и обволакивает. Крик мгновенен, но запах его еще долго будоражит гнилой мозг; переживание умерло, не родившись — зачем им оно — у них есть их вонь. И с них достаточно. Пусть воняют. А я буду переживать. Мысль, если она родилась в сладострастии переживания — должна прожить свою жизнь скромно и со вкусом и умереть, раствориться, и если жизни ей отпущено — миг, то и пусть будет миг, если будет день — то пусть будет день — умрет она и следа не оставит во мне, и не заслонит собою путь другим, не встанет мавзолеем, не завяжется узлом.
«Эта искра не довольствуется ни отцом, ни сыном, ни святым духом, ни троицей, пока из всех трех лиц каждое заключено в своей свойственности. Воистину говорю, свет этот не удовольствуется плодоносной врожденностью божественного естества. Скажу я и более, что звучать будет еще диковиннее: клянусь я благою истиной, что свету этому не довольно простой недвижности божественной сущности, ничего не отдающей и ничего в себя не вбирающей; и еще более: свет жаждет знать, откуда сущность эта приходит, он жаждет простого основания, безмолвной пустыни, где никогда не усмотришь никакого различия, где нет ни отца, ни сына, ни святого духа; во внутренних недрах, в ничьей обители — там свет сей находит удовлетворение, и там он более един, чем в себе самом; ибо основание здесь — просто покой, в самом себе неподвижный. Тем самым очищенный, просветленный дух погружается в божественную тьму, в молчание и в непостижимое и невыразимое единение; и в погружении этом утрачивает все схожее и несхожее, и в бездне этой теряет дух сам себя и ничего более не знает ни о Боге, ни о себе самом, ни о схожем, ни о несхожем, ни о ничто; ибо отныне погрузился он в Божественное единство и утратил все различения».
Мне говорят — ты подонок, ты мразь, тебя надо раздавить, разрезать — а мне остается только слушать, слушать и понимать — пропасть бездонна. Прекрасное предвечернее небо, густые облака, свежие хвойные заросли, снег на опавших листьях. Ты сейчас — это такая же красота, о которой можно мечтать, которую можно иногда увидеть, почувствовать, но нельзя слиться. Как лес — он рядом, но он не мой, как горы — они в моей душе, но я далек от них — ты сейчас для меня и море и горы и лес, это все ты — маленькая такая девчонка…
И на засохшей ветке есть цветы.
В шуме ручья, в грохоте вагонов, в шелесте листьев нет-нет, да и пробьется удивительная мелодия неведомых инструментов — без мотива, без привычных человеку атрибутов. Но есть и другая мелодия — совокупность моментальных переживаний, не отягощенных ничем человеческим (тем самым — которое слишком человеческое) иногда складывается в грандиозную, почти непереносимую для внутреннего уха человека мелодию судьбы. Кто слышал ее звуки, тот знает — нет более грандиозного хора, исполняемого мириадноголосым миром, тот знает — здесь он соприкасается с сокровеннейшей тайной — он берет в руки сердце мира.
Иногда мне кажется, что меня нет. Ну то есть совсем нет. Мне чудится, что легкий порыв ветра может развеять пыль моего существа и как дворник смахивает листву с тротуара — так будет сметено и то, что называлось мною. И я вернусь в то, из чего был создан — в землю, в ветер, в снег, в любопытство. Перед моими глазами назойливо всплывает такая картина — будто в далекой хижине в горах вне времени пребывают в глубине своих сердец старики, чей удел — непостижим, и пришла им фантазия соединить неведомые потоки сознания и создать живое существо, наделив его всем, что дает возможность сказать человеку, что он существует — каждый наделил эту игрушку тем, чем смог — ощущения, впечатления, воспоминания, мысли, любовь — каждый дал что-то и возник человек. Останется ли что-то, когда их фантазия прекратится и интерес к игрушке исчерпается? Потоки вернутся обратно, и я просто в этот момент исчезну. Мне кажется, что они дают мне шанс самому решить этот вопрос — буду ли я достаточно интересен для них? Сумею ли захватить их силой своей искренности?
Когда я слушаю Matia Bazaar, меня охватывает такая сладкая жажда смерти. А может, это и не смерть вовсе? Может — это как раз жизнь? Сжимается сердце и я вижу отблеск солнца где-то глубоко внутри себя. Безотчетная любовь и смерть — они идут рука об руку к яростному всплеску счастья.
Наверное, я смешон. Наверное, я виден как искатель средства от одиночества и тоски, как потребитель душ, и как сказать, как объяснить, что я хочу лишь показать — как близко, как рядом лежит Нечто…
Одна лошадь и один ежик гуляли в тумане Кронштадта, и там на них был лишь один лист, и этот лист подлетал и улетал обратно подобно Луи-де-Бройлю моих детских снов — он словно дурная бесконечность Бердяева — как пенисоидный символ индусов, намекал на ненамекаемое, то есть, в общем, мягкотелость и жестокосердность были в этой безрадостной картине фибриллирующего листа. Я видел сон: толстый паук сидел, свесив ножки. С пару месяцев назад я познакомился с девушкой с мужским обратным адресом. Тогда я это написал, а сейчас всплыло. Андрогинный привкус. Половое стерео. Хихикающая ехидна. Вкусный купорос. Так тот паук смеялся над нами, он смеялся над тем уродливым образованием, что человеки зовут совестью. Совесть — как древесный гриб — вроде гриб, а на самом деле — чистая целлюлоза. Она вроде бы часть психики, а на самом деле — просто целлюлоза. Вот о чем я серьезно думаю. Вполне серьезно. «А как тебя зовут» — спросил я ее? И главное — куда? Ведь если зовут — так это обязательно куда-то. Что должен чувствовать человек, которого патетически призывают к смерти? Я помню снег, выскальзывающий из-под моих ног, накренившийся лед, и твердое решение: «Если мои кошки меня не удержат — я вцеплюсь в лед зубами». И подняв ледоруб как знамя, я шел туда, куда меня никто не звал — и там я был счастлив. Океан цветущих гранатов в долине Цинандали. Прибой цветущей сакуры на склоне Фудзи — ползет ли еще та улитка или уже доползла и с этим закончилась прекрасная эпоха мгновенных стихов и вечной любви?