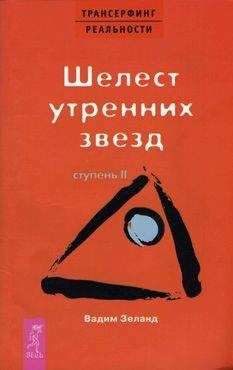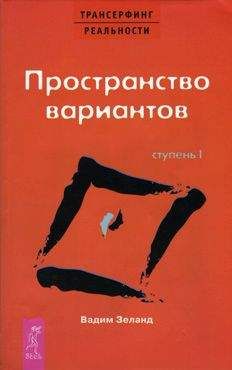Александр Шевцов (Андреев, Саныч, Скоморох) - Очищение. Том.2. Душа
К «функциональным органам» относятся «не только чувство, но также образ и представление» (Там же, с. 104).
Зинченко много говорит о том, что одним из таких «функциональных органов» является движение, которому он отводит особую роль. Движение он понимает философски, называя «живым движением души», и отличает от «механического движения», которое я тоже предпочитаю называть перемещением в пространстве. Приведу именно рассуждение о душе, как пример описания «духовного организма», поскольку намерен посвятить движению особое исследование.
«Что есть душа?… Может быть, живое движение, если не душа, то ее удачная метафора или душа души, ее энергийное ядро? Ее плоть?
Живое движение иначе, чем механическое, связано с пространством и временем. Механическое движение есть перемещение какого-либо тела в пространстве, а живое — преодоление "мыслящим телом" (термин Спинозы) пространства, претерпевание такого преодоления и построение собственного пространства» (Там же, с. 105–106).
Понять все это мне не так уж просто. Возможно, самым доходчивым объяснением является вот этот образ Зинченко: «В балете жизнь самого движения совпадает с жизнью души танцора» (Там же, с. 109). Поскольку Владимир Петрович использует множество поэтических метафор для объяснения своего видения, то я допускаю, что он понимает то, что говорит, гораздо глубже, чем я. Но я скажу, как я это вижу психологически.
В балете мы видим движение. Движение кого? Конечно, тела, если мы глядим из зала. Но почему тогда это движение отзывается в наших душах? Потому что оно что-то говорит им. Как может телесное движение что-то говорить душам? А оно и не говорит, говорит душа, душа того, кто пытается телом передать нам свои образы. Говорит душа балетмейстера, композитора, дирижера…
Танцор впитывает все их послания и накапливает их в себе, сжимая до страстного желания расширяться. А потом выпускает сквозь тело. И тело летит. Но где можно накапливать эти образы, сжимать их, и откуда мы их выпускаем? Язык однозначно указывает на душу. Мы можем сказать: все это работа мозга! Даже если так, что делает эту почти машину способной переполняться чувствами, стенать и ликовать? Даже если все это работа мозга, в ней есть нечто, что должно выделить и описать как самостоятельное образование с именем душа.
Именно она рождает образы того, что должно пролиться сквозь тело танцора в зал, в души зрителей.
Но как этот образ превращается в движение? Однозначно, будучи повешен в пространстве, как некая голограмма, по которой должно будет пролететь послушное тело. Можно возразить: это только воображение. А какая разница? Даже если эти образы, висящие в пространстве, совершенно идеальны, танцор видит их располагающимися в пространстве вокруг себя. Он смотрит туда, в эти воображаемые пространства, то есть в пространства, воплощенные в образы, если мы вглядимся в слово «воображение».
В точности, как и описывает Зинченко пространственность «духовного тела».
Танцор должен сначала их увидеть в каком-то внутреннем пространстве и увидеть там же самого себя, воплощающим эти образы, то есть вливающим в них плоть своего тела. А затем ему необходимо развесить их в пространстве своего движения. Иначе он их не выполнит.
И получается, что движение танцора — это слияние тела и воображаемого образа, вообраза, как говорили мазыки.[2] И это единство очень жесткое, потому что стоит танцору забыть кусочек образа, как его движение оборвется. Образы движений оказываются действительными органами, без которых телу не выполнить задуманное. И они висят в пространстве вокруг человека, они меж и вне. И при этом они содержат в себе и образ тела, которое должно в них войти, и некую связь с телом, которая обеспечивает это слияние и дает ощущение: движение идет точно!
Это значит, что «духовное тело» оказывается созданным из этих сочетаний образов и тела. Образов много, а тело-то одно. Значит, в них присутствует не тело, а некий телесный дух, который и втягивает, всасывает тело внутрь образов, заставляя его двигаться…
А душа?
А душа где-то вне, где-то за этим… Но она прямо тут, она даже не за тонкой пленкой, к ней всего лишь надо суметь повернуться во время этого страстного выплеска вовне. Как это сделать? Как обернуться к душе?
Вот тот вопрос и точка в пространстве мысли, на которой я расстаюсь с современной русской психологией. Мне кажется, мы на пороге большой и настоящей науки.
Круг четвертый. НАУЧНАЯ И ДУХОВНАЯ ФИЛОСОФИЯ
В предыдущем разделе я показал, что представляет из себя научное понятие о душе. Я ограничился только русскими и советскими представлениями, но они предельно показательны для всего мира. Пусть наши соотечественники были вторичны в своей безнадежной погоне за Прогрессом, но уж суть его они передавали получше самих первооткрывателей. Такова судьба всех вновь обращенных — они должны быть правовернее самого пророка.
И даже если советская психология вовсю воевала с загнивающим Западом, это никак не касалось основ веры. Ты можешь как суннит резать шиитов, а как шиит резать суннитов, но в Мухаммеде ты не сомневаешься. Вот и научные психологи всего мира вне зависимости от классовой принадлежности никогда не сомневались в символе своей веры — душа не пройдет в науку!
То, о чем я хочу рассказать в этой части, вероятно, является лучшей страницей русской культуры и высочайшим порывом русской души и мысли. Был ли при этом этот порыв и прорывом? Не знаю, не думаю…
Боюсь, что мы сейчас окажемся еще в одном круге, сущность которого составят стенания и плачи души.
Пусть так, но это все-таки действительно душевные движения, и это движения души, ищущей выхода из ловушек, в которые она то ли попала сама, то ли была улучена Богами. Ловушки эти были разными. Одну из них я бы назвал научностью. Другую — философией.
И наука, и философия появляются в России в петровское время. Все это было следствием и условием прорубания окна в Европу. До Петра, то есть в XVII веке и ранее, на Руси, конечно, были и умные люди и люди, могущие быть названы мудрецами, но ни ученых, ни философов не было. По той простой причине, что философия, как мы ее знаем сейчас — это вид профессиональной деятельности, связанный с утверждением определенного мировоззрения.
Собственно русское, как и предшествовавшее ему мировоззрение славян и других народов, в утверждении себя не нуждалось. С одной стороны, потому что те его уровни, которые могли нуждаться в профессионалах, были вырезаны насильственной христианизацией вместе с язычеством, а оставшаяся часть древнего мировоззрения стала народным обычаем. А обычай хранится отнюдь не думающими и ищущими людьми. Как раз они-то и чувствовали себя инородцами, когда сталкивались с жизнью собственного народа.
С другой же стороны, ищущие какой-то философской глубины русские люди всегда имели возможность уйти в духовный поиск в рамках Христианства. Там же могла в какой-то мере быть удовлетворена и потребность в собственно философствовании. Именно в какой-то мере, потому что глубинная часть христианства — мистична, а философия для нее лишь приуготовление к действительному созерцанию божественного или в нашем случае самой души. По большому счету, мудрость для этого нужна, а философия — только помеха, поскольку заставляет отступить на шаг назад и созерцать то же самое, что ты можешь видеть непосредственно, через слой искусственно выстроенных понятий.
Тем не менее, философия проникала, конечно, в Россию и до Петра. Георгий Флоровский, рассказывая о философских увлечениях русских людей в XVII–XVIII веках, находит для него удачное выражение:
«Все это еще не выходит и не выводит, конечно, за пределы простой философской любознательности, хотя бы и очень искренней» (Флоровский, с. 275).
Флоровский подчеркивает этим именно то, что философия России до начала века девятнадцатого не была профессиональной. Люди изучали ее именно для себя.
Однако для культурно-исторического исследования понятия души не так уж важно, были ли русские философы предыдущей поры любителями или профессионалами. Имеет значение только то, распространялись ли их взгляды и проникали ли в сознание народа. И если исходить из этого, то любители философии до времени Петра никакого влияния на русский язык, а значит, и на русское мышление не имели. На протяжении многих веков на Руси существовали только два мировоззрения — народное, которое века с одиннадцатого можно называть двоеверием, и христианское.
Христианское мировоззрение еще до крещения Руси становится мировоззрением правящей знати и так им остается до появления Науки. Вначале оно полностью чуждо для народа, но к восемнадцатому веку христианизация становится все глубже в силу уже той причины, что язычество все больше забывается и уходит даже из бытового сознания.