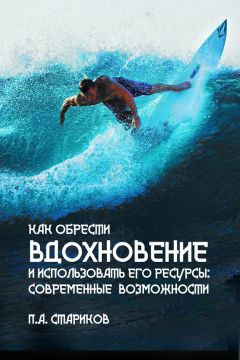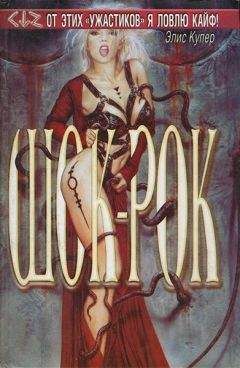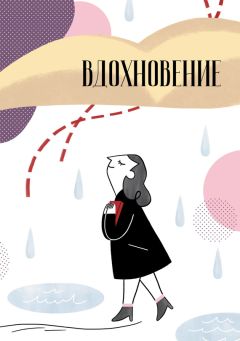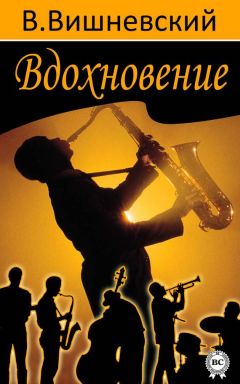Ойген Херригель - Дзен в искусстве стрельбы из лука
У большинства людей желания так глубоко проникли в плоть и кровь и занимают такое пространство, что положение кажется безнадежным. Больше того: он сталкивается не только с властью страстей, но и со злыми помыслами, порождаемыми жестокостью, вероломством, нечестностью и так далее. Люди простодушные и чувствительные наиболее доступны и обходительны. Не то что жестокосердые, которые знают о противопоставлении «добро — зло» и сознательно отклоняют добро, даже ненавидят его. Разве это не ужасно!
Ведь ему говорили, что во всех вещах изначально заключена природа Будды. Он даже видел это, видел везде: в деревьях и камнях, в горах и водах, в цветах и кустах. Так неужели ее нет в человеке? ! Теперь, когда он сталкивается с людьми, его просветленный взгляд оказывается несостоятельным. Он видит то, чего нет в мире растений и животных: безмерную лживость человека. Зверь не обманывает, не притворяется, не надевает на себя личину. Природа Будды в каждом человеке? Как же так, что с ним случилось?! Неужели его изначальная природа испорчена?
Такой опыт ведет к сомнениям и отчаянию, и снова молодой священник обращается к мастеру, он нуждается в беседах с ним, теперь для них самое время, потому что возникшие проблемы касаются вещей, которые можно осознать с помощью разума. Начинается наставничество (и оно может растянуться на долгое время) не в форме объяснений, лекций и поучений, а на основе разных методик — в зависимости от особенностей ученика, — с привлечением специально подобранных коанов, благодаря которым ученик и сам сможет во всем разобраться. В любом случае, он получит наставления относительно жизни и работы, будет обговорено все, что волнует ученика, — те сложности, с которыми сталкивается начинающий, потому что воспринимает спасение других как обузу, помеху и чуть ли не предательство и сам еще не чувствует внутренней потребности помогать; для него забота о других еще не стала само собой разумеющейся. Побеседуют они и о сложности его ситуации, когда он кажется себе похожим на недоучившегося врача, вынужденного лечить больных.
Ученику становится понятно: его сомнения совершенно естественны, и пока просто не может быть иначе. Связано это вовсе не с жестокостью мира, дело в нем самом: ему все еще недостает равновесия. Внутренне он еще таков, каким его видит мир. Неудачи должны помочь ему это осознать. Он должен разобраться в самом себе — это непременное условие дальнейшего продвижения по выбранному им пути, и огорчения только полезны. Его призвание — «сохранить святое сердце»* и сберечь себя в обращении с вещами и людьми — трудное и долговременное испытание, необходимое, если он намерен спасать других.
* Остается лишь догадываться, какой буддийский термин стоит за этим выражением; по-видимому, речь идет о санскр. бодхичитта, ключевом термине традиции буддизма Махая-ны, к которой относит себя дзэн. Бодхичитта (букв, дух Пробуждения; для японцев «дух» и «сердце» совпадают) подразумевает устремление к Пробуждению (состоянию Будды) как к способности наивысшей помощи всем существам. Бодхичитта зарождается на основе любви и сострадания.
На этом пути есть опасности и искушения. Сначала он, решившийся идти по пути высшей Истины, неизбежно стремится жить в Истине, так, как он ее видит и понимает. Он живет по принципам, он думает и действует в соответствии с ними. Он избрал добро и благородство в противовес злу и неблагородству, не подозревая, что этим сознательно принятым решением уже определен и он сам. Отделяя добро (которому он посвятил свою жизнь) и святость (которой он служит) от зла (которое хочет искоренить), он четко выбирает одну из противоположностей. Но в «Шиншинмин»* сказано: «Истина не трудна и не допускает выбора одного из двух...»
* «Книга ничто», единственный текст, который оставил после себя великий странствующий монах Сосан, третий патриарх чань (дзэн). Текст начинается словами: «Великий путь не труден для тех, у кого нет предпочтений...»; известен как классический образец «созерцания-без-мыслей».
Это «выбирающее между», как выражаются мастера дзэн, проявляется в том, что тот, кто хочет обладать одним, должен отбросить второе. Таким образом, появляется точка зрения, а она всегда односторонняя. Хотя человек и выбрал добро, но его противоположность, зло, все еще имеет над ним власть. Стремясь к добру (идеям, ценностям), он становится таким же несвободным, как другие, находящиеся под властью порока. Он тоже скован. Человек, отказавшийся от радостей жизни, потому что находится под властью идей, в принципе ушел не слишком далеко. Он, конечно, продвинулся дальше, чем тот, кто пребывает в плену своих страстей, — ведь он понимает, что существует две стороны, противостоящие друг другу, и единства между ними быть не может. Но он еще не готов перейти на новую ступень. Он еще не поднялся над противоположностями, не живет пафосом преодоления. А раз так, то он сталкивается с отторжением. Священник, воспринимая это отторжение как намеренность, становится еще более взыскательным, чувствуя свою избранность и ощущая себя живым укором злу. Он нетерпелив, не свободен от стремления быть признанным и даже почитаемым. Так что и в нем тоже (хотя он в этом не признается) действует инстинкт власти, и его «ведение души» в широком смысле есть проявление этого инстинкта, хотя и в виде священного усердия и нравственного превосходства. Конечно, он призван к ведению в высшем смысле, но к нему он еще не готов, ибо оно основано на разнице уровней: оно тоже власть, хотя и совершенно другого рода. Но и священное усердие здесь тоже неправомочно: даже если поддавшиеся соблазну порочат Будду и высшую Истину, священник все равно не адвокат этой Истины, и он остережется разглагольствовать о Будде или дзэн.
А как обстоит дело со злодеями? Разум вводит их в заблуждение, они чувствуют себя центром, на который ориентировано все. Эти своенравие и упрямство — причина того, что природа Будды в них совершенно затемнена. Здесь уже недостаточно просветленного взгляда. Их своенравие кажется изначальным. У священника нет другого выбора, кроме как поверить Будде и мастерам, утверждающим, чтт природа Будды есть даже в преступнике. Он должен верить до тех пор, пока сам не увидит и не узнает этого и таким образом станет независимым от Будды и мастеров. Чтобы добраться до этого знания, равного высочайшему сатори, снова требуются упражнения. Точно так же, как раньше для достижения сатори нужны были тренировки дыхания и сосредоточения, так теперь требуются упражнения, которые проникают все существо упражняющегося, приводя его к состраданию не только в духовном плане, но и на душевном и физическом уровнях. Через подобные упражнения он должен отказаться от всех противопоставлений, которые его пока еще удерживают (даже если поначалу будут периодические рецидивы), и это предпосылка для окончательного преобразования, которое теперь уже не проделанная им работа, а врученный ему дар. Благодаря своему неудачному опыту священник к нему подготовлен. Он должен полностью лишиться своей самости, так, чтобы понятие «я сам» больше не встречалось ни в качестве слова, ни в качестве настроения, а превратилось в величину неизвестную. «Я сам», до этого тайный или осознаваемый центр всех повседневных событий и профессионального опыта, должен исчезнуть.
Это ни в коем случае не означает, что «я» должно смениться на более шаткое «мы». Потому что даже групповые события затрагивают отдельного человека в качестве «я», хотя он реагирует на них не индивидуально и лично, а в стиле и темпе целой группы. Скорее, «я» следует заменить на «оно».
Но для начала достаточно существования без «я» и «сам», то есть нужно стать безличным, что вовсе не означает «лишенным характера».
Дальнейшие упражнения должны привести к полной равностности. То есть он должен научиться равностно взирать на все происходящее, в основном на то, что происходит с ним самим, так, как будто самые глубины его оно не затрагивает. Например, счастливым событиям в собственной жизни надо радоваться так, как будто это происходит с кем-нибудь другим. А от горя, обрушившегося на другого, страдать так, как будто это твое личное горе. Или так: честно радоваться за другого, даже если для тебя это связано со страданием (например, если предпочтение отдали другому человеку), страдать страданием других, даже если то, что доставляет несчастье другому, приносит радость тебе.
Само собой разумеется, что ученик Будды не имеет права на ненависть — ив конце концов больше уже не может ненавидеть. Точно так же он не имеет права любить в обычном смысле этого слова — и наконец не может любить*. Но он не становится бесчувственным и безучастным. Он позволяет всему и всем, кто с ним встречается, принимать его щедрую любовь и не рассчитывает на любовь ответную, он любит беспристрастно, полностью лишенный своей самости, любит только ради самой любви. И не потому, что это доставляет ему личное удовольствие и удовлетворяет его собственные потребности, а потому, что он должен жить исходя из получаемой в дар любви. Итак, это любовь (если ее вообще можно назвать любовью), которая не может перейти в ненависть и стоит по ту сторону любви и ненависти. Она не яркое пламя, которое быстро гаснет, а тихо тлеющий огонек, подпитывающий сам себя. Любовь, которая не знает привнесенных из внешнего мира разочарований и поощрений; любовь, к которой примешаны доброта, сочувствие, благодарность; которая не уговаривает, не навязывается, не предъявляет претензий, не преследует, не вызывает беспокойства; любовь, которую дают не для того, чтобы получить что-то взамен, — эта любовь обладает столь удивительной властью именно потому, что не стремится к власти. Она нежная, мягкая и неотразимая. Даже так называемые «мертвые вещи» открываются ей, ей доверяют даже звери, обычно робкие и боязливые.