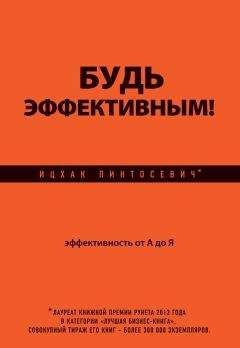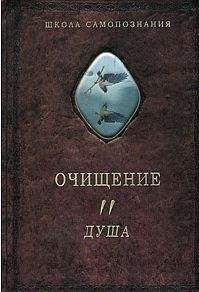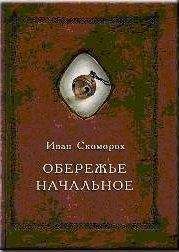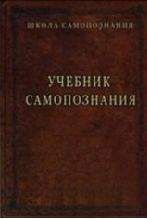Александр Шевцов (Андреев, Саныч, Скоморох) - Очищение. Том 1. Организм. Психика. Тело. Сознание
«Даже если ограничиться тем планом исследования сознания, в котором выясняется связь последнего с мозгом, то уже на этом уровне остро стоит проблема междисциплинарности, соотнесения, обобщения, интеграции результатов, полученных в рамках различных дисциплин, на основе различных методов. Уже тут мы сталкиваемся с чрезвычайным разнообразием эмпирических данных, концепций, ракурсов исследований, гипотез и теоретических обоснований.
За последние четверть века мы были свидетелями успешного развития нейрокибернетических моделей мозговой деятельности, психофармакологических исследований измененных состояний сознания, стереотаксической семиологии (существенно обогатившей наши представления о локализации психических функций), выдающихся результатов в области изучения функциональной асимметрии мозга и психофизиологии чувственного отображения. Возникли новые направления исследований, новые комплексные подходы, в которых существенную роль играют данные нейроморфологии, позволившие существенно обогатить наши представления о функциях головного мозга» (Дубровский Д. И. Психика и мозг: результаты и перспективы исследований // Мозг и сознание, с. 15).
Дубровский, как кажется, даже не замечает, что вообще не говорит о сознании, знакомя нас со сборником «Мозг и сознание». Нельзя исследовать сознание, пока ты не знаешь, что это такое, хотя бы в общем. И тем более не получается его исследовать, если не исследовать совсем или исследовать вместо него что-то другое. Все исследования этого сборника относятся к каким-то проявлениям работы мозга, которые ученые решили называть сознанием. Почему? Это не обсуждается, это тот вопрос, о котором устали спорить. По кочану!
И при этом нашлись такие, кто спорит!
Как возмущено и ошарашено этим было сообщество психофилософов, вы почувствуете по тону Дубровского:
«Социологизаторские установки выступали за последние десятилетия в разных формах, их адепты стремились вынести психику и сознание за пределы человеческого индивида, изобразить сознание как сугубо надличностное качество.
Это характерно для статьи В. И. Зинченко и М. К. Мамардашвили, вызвавшей многие недоразумения в связи с тем, что авторы настаивали на особом статусе "психических событий", которые, по их мнению, "происходят не в голове, как нейрофизиологические события", а скорее, где-то между головами людей (имеется в виду статья «Проблема объективного метода в психологии» // Вопросы философии, 1977, № 7 — АШ).
В последнее время М. К. Мамардашвили пошел дальше. Приведем некоторые его описания и определения сознания. Он считает, что термин «сознание» в принципе означает какую-то связь или соотнесенность человека с иной реальностью поверх или через голову окружающей реальности. "И это место перехода или место связанности и есть сознание, которое у нас есть или нет. То есть сознание— это место. В топологическом смысле этого слова"…
Допустим, что приведенные высказывания имеют некий сокровенный смысл, как и вся статья автора, претендующая на охват проблемы сознания в целом. Но даже не вдаваясь в конкретный анализ, у нас есть основание отметить, что автор игнорирует такой аспект проблемы, как отношение сознания к мозгу.
Это проявилось и в его интервью журналу "Вопросы философии": "По обыденной привычке, — говорит он, — мы, как правило, вписываем акты сознания в границы анатомического очертания человека. Но, возможно, каким-то первичным образом сознание находится вне индивида, как некое пространственно-подобное или полевое образование".
Понятно, что при таком подходе к сознанию мозг оказывается ни при чем.
Серьезные сомнения вызывают и многие положения программной статьи Е. П. Велихова, В. П. Зинченко и В. А. Лекторского, ставящей целью сформировать методологические основы междисциплинарных исследований сознания (Статья называлась: Сознание: опыт междисциплинарного подхода // Вопросы философии, 1988, № 11 — АШ). В ней мы видим аналогичные исходные посылки: "сознание выступает в качестве связки, посредствующего звена между деятельностью и личностью". "В качестве концептуальной основы междисциплинарных исследований сознания, — пишут авторы, — мы выдвинули методологическую идею трактовки сознания как "духовного организма", оснащенного функциональными органами"» (Дубровский, с. 11–12).
Как видите, сознание осталось для поздней советской Психологии «проблемой», как и для самых ранних работ Выготского и Леонтьева. Преемственность эта означает не только верность идеологическим установкам, но и отказ перейти к исследованиям в собственно научном смысле. Свершись такой переход, и тут же вместо «проблемы» появилось бы «понятие сознания». Но даже такой сдвиг мог означать идейное предательство. Понятия определяет лишь тот, кто с ними еще не определился. В советской Психофилософии все было раз и навсегда определено, поэтому я опускаю даже «достижения последней четверти века», хотя они дожили и до сегодняшнего дня. Они, безусловно, ценны и необходимы, но как знания о работе мозга. И если сознание действительно «психическая функция мозга». Но что такое сознание?
Что же касается новой русской науки о сознании, то тут, кажется, все ясно. Сами советские философы устами Дубровского сказали, что новое появилось в конце советской эпохи и кто говорил это новое.
О них и рассказ, как об ином понимании сознания.
Глава 4. Новая русская наука о сознании. Мамардашвили, Зинченко
Новая русская философия сознания родилась в 1977 году — в самый пик Брежневского застоя. Родилась она в небольшой статье философа Мераба Константиновича Мамардашвили (1930–1990) и психолога Владимира Петровича Зинченко (р. 1931).
В 2003 году Зинченко писал о Мамардашвили в «Большом психологическом словаре»:
«Идеи Мамардашвили о превращенных формах сознания, о человеческой свободе, свободном действии, о культуре, о расширении сферы объективного за счет включения в нее субъективного, об онтологии сознания и психики, об этике мышления, природе мысли и творчества, о невербальном внутреннем слове, о рефлексии, о хронотопе и дискретности жизни психологии еще предстоит освоить».
Вот расширению сферы объективного за счет включения в нее субъективного и была посвящена их совместная статья, помещенная в самом оплоте коммунистической идеологии — журнале «Вопросы философии». То, что статья не укладывалась в марксистское мировоззрение, вы уже поняли по тому, как воспринимает ее Дубровский в предыдущей главе. Но что в ней было действительно иным?
Внешне статья написана, как полагается. Авторы цитируют Маркса и используют множество научных терминов. Иначе говоря, редакция распознала ее как марксистскую и правоверно научную. Тем более, что называлась она так, что у любого редактора мгновенно происходило засыпание: «Проблема объективного метода в психологии». К тому же первую треть и заключение статьи вообще невозможно читать психически здоровому человеку. Эта такая наукообразища, что скулы ломит.
Но это прием — иначе говорить было нельзя. Поэтому читать статью надо как зашифрованное донесение, опуская слова-паразиты и вникая в смысл сказанного. А смысл, если возвращаться к словам Зинченко, в том, что субъективное — не идеально, с ним не надо воевать. Оно — часть действительности и его надо изучать так же, как любые физические явления. Субъективное, то есть сознание, — есть физическая действительность, сродни физическим полям, и находится оно не в мозге, как не может находиться в мозге электромагнитное поле, порождаемое его электрической деятельностью. Сознание должно рассматриваться пространственно!
Кстати, а почему оно не рассматривается пространственно? Так ведь мы интеллигенты, а интеллигент — это несущий свет с Запада в Россию. А на Западе Декарт сказал: сознание непространственно! Декарт-то вовсе не о сознании говорил, но раз научная традиция понимает его так, значит, все правоверные сектанты Психологии будут верно служить продвижению идей Декарта.
С разрушения этого самообмана и начинают Зинченко и Мамардашвили.
«Но основная трудность относится к возможной пространственности психических процессов и их продуктов. Ведь в случае искусства ясно, что стоит нам мысленно лишить, например, изобразительные его жанры пространства, как мы тем самым уничтожаем его.
Но почему же мы с легкостью необыкновенной проделываем подобную варварскую процедуру с психической реальностью? Нам напомнят, что о пространственности психического в соответствии с декартовым противопоставлением души и тела говорить вовсе не принято.