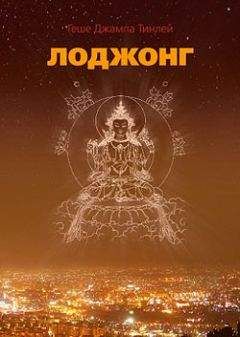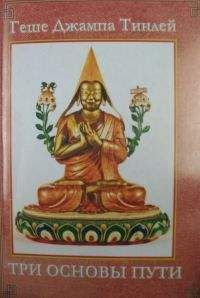Вэйн Джакобсен - Что, не хочешь больше ходить в церковь?
Я беззвучно засмеялся — никто даже не смотрел в сторону человека, который только что говорил. Да и не мудрено, его трудно было заметить из-за низкого роста. Но я, то наблюдал за толпой и за ним уже несколько минут, заинтригованный таким необычным поведением.
Пока люди в толпе озирались, он вновь произнес в тишине: «Знаете ли вы, каким он был?»
В этот раз все повернули взгляды вниз, на голос, и были крайне удивлены видом того, кто говорил к ним. Этот еще откуда взялся? Он-то что об этом знает? Невысказанные вопросы усиливали напряженную тишину.
«Ну, а ты-то сам, что об этом знаешь?»— наконец произнес один из них, вложив все свое презрение в каждое слово, и осекшись только тогда, когда неодобрительные взгляды окружавших заставили его замолчать. Он хохотнул и отвел глаза в смущении, будучи рад тому, что внимание толпы вернулось к незнакомцу. Но тот не торопился говорить. Пауза затянулась и перешла всякие границы дозволенного. Начались нервные взгляды, пожимания плечами…, но никто не сказал ни слова и никто не покинул своего места. Все это время незнакомец обводил взглядом лица стоявших в толпе, задерживаясь на каждом доли секунды. Когда он встретился взглядом со мной, во мне, казалось, все растаяло. Я мгновенно отвел глаза. Через некоторое время, в надежде, что он больше на меня не смотрит, я украдкой бросил косой взгляд на него и снова наблюдал за происходящим.
После мучительно долгого молчания он заговорил опять. Его первые слова были произнесены тихо, почти шепотом, и предназначались непосредственно тому, кто стращал всех адовыми муками. «Вы, вероятно, даже и не подозреваете о том, что вами движет». Тон его голоса был печален, он как бы о чем-то умолял, в его обращении не было ни тени гнева. В смущении бывший обвинитель повел руками, скривил губы, как бы показывая, что вопрос ему не понятен. Да и что другого он мог придумать, когда вдруг оказался в центре всеобщего внимания.
Незнакомец не надолго оставил его на обозрение толпы и, оглядывая всех по кругу, начал говорить снова. Слова слетали с губ легко и мягко. «Он был из тех, на ком не задерживается взгляд. Если бы сегодня Он прошел бы по этой улице, никто из вас Его бы и не заметил. Кроме того, человек с таким лицом, как у него не бывает популярен, и уж точно Он не вписался бы в ваше собрание.
«Но Он был самым благородным из всех людей, которых знал мир. Он мог унять клеветников, даже не повышая голоса. Он никогда не шел напролом, никогда не привлекал к себе внимания и никогда не делал вид, что ему нравится то, что его на самом деле раздражало. Он был настоящим до мозга костей.
«И сущностью его была любовь». Незнакомец остановился и покачал головой. «Да! Вот это была любовь!» Его глаза смотрели сквозь толпу. Было похоже на то, что он просто смотрел сквозь столетия и пространства. «Мы и понятия не имели о том, что такое любовь до тех пор, пока не увидели ее в нем. Все, даже те, кто ненавидел его; те, кто не удостаивали его даже малости своего внимания. Он заботился и о них, надеясь, что как-нибудь они все-таки вырвутся из своих избичеванных собственными руками душ, и поймут, кто стоит теперь среди них.
«И в любви он был абсолютно искренен. Даже тогда, когда его слова и действия обличали самые темные побуждения людей, они не чувствовали порицания. С ним все ощущали себя в безопасности. В его словах не было и намека на осуждение, а просто мольба: придите к Богу и он освободит вас. Никому другому вы так скоро не доверили бы свои тайны. И если бы вашим грязным делишкам надлежало открыться во всей красе пред глазами кого-либо, вы предпочли бы, чтобы это был он.
«Он не тратил понапрасну время на высмеивание ни людей, ни их религиозных заблуждений». Он посмотрел на тех, кто только что был занят именно этим. «Если у него было, что сказать, он говорил это и шел дальше, а вы вдруг ощущали, что вот она эта любовь, та, которую вам никто доселе не являл». На этом незнакомец прервался — закрытые глаза и стиснутые зубы говорили о том, что он пытался подавить слезы так усердно, словно они могли растопить его изнутри.
«И я не говорю вам теперь о слюнявом сентиментализме. Он любил, и по-настоящему любил — будь кто из вас фарисеем или проституткой, учеником или слепым нищим, евреем, самаритянином или язычником — его любовь могла объять всех. И многие прилеплялись к этой любви, когда видели его. Не многие, однако, последовали за ним, но даже те, кто провели с ним недолгое время, спустя многие годы не могли отрицать того, что в те мгновения они испытали нечто такое, чего у них больше не было в жизни. Казалось, что он каким-то образом знал о вас все, и глубоко любил в вас то истинное, что было его собственным творением».
Он замолчал и осмотрел толпу. Она выросла человек на тридцать за последние несколько мгновений, и присоединившиеся не могли оторвать взглядов от этого человека, которого они слушали, в недоумении приоткрыв рты. Я могу сейчас прописать все его слова, но не могу в полноте передать тот эффект, который они произвели. Никто из слушавших не рискнул бы отрицать силы его искренности, исходившей из самой глубины души.
«И когда он висел на том прискорбном кресте, — взгляд незнакомца скользнул по деревьям, раскинувшим над нами свои кроны, — эта любовь все еще струилась и на насмешника, и на разочарованного бывшего друга. Во всем течении времен не было более важного момента, чем тот, когда он приблизился к чертогам смерти, отягощенный битвой с грехом. Его муки — это тот самый канал, по которому Его жизнь струится к вам. Он не был сумасшедшим. Он был Сын Божий, исчерпанный до последнего издыхания ради того, чтобы мы могли жить свободно».
Я был поражен тем, как он говорил о Христе, так мог говорить только человек, который жил с ним рядом. Я даже подумал тогда: «Этот человек — точный портрет того, как я себе мог бы представить Иоанна Богослова».
Не успел я подумать, как он прервался на полуслове, повернулся, как бы отыскивая кого-то в толпе. Внезапно мы встретились взглядами. Я почувствовал, как волосы стали дыбом, а по спине пробежал холодок. Он выдержал взгляд несколько мгновений, затем моментальная, но определенная улыбка пробежала у него по лицу, он подмигнул мне и кивнул.
По крайней мере, так я это теперь вспоминаю. Я был шокирован. Он прочитал мои мысли? Глупо… Даже, если это и был Иоанн, он не мог читать мысли. Что это я? Как этот человек может быть учеником о двух тысячах лет от роду? Это невозможно!
Когда он отвел взгляд, я обернулся: нет ли кого-либо еще за моей спиной, кто мог быть мишенью такого внимания. Никого не было, более того, никто кроме меня даже и не заметил улыбки и подмигивания. Я был ошарашен, как если бы меня прибило отрекошетившим футбольным мячом. Заряды энергии пробивали меня с каждым новым вопросом, проносившимся в мозгу — однозначно, нужно поподробнее узнать о нем.
Народ прибывал. Все новые и новые слушатели с любопытством пытались понять, где эпицентр происходящего и что, собственно происходит. Даже незнакомец уже не чувствовал себя комфортно, учитывая размах так быстро произведенного эффекта.
«Если бы я был на вашем месте, — сказал он, указав пальцем на тех, кто затеял всю эту дискуссию я бы предпочел потратить гораздо меньше времени на разбор религиозных мировоззрений, но точно бы выяснил, насколько сильно он меня любит». С этими словами он развернулся, прошел сквозь толпившихся как раз в противоположном направлении от меня. Никто не двинулся, не сказал ни слова, в замешательстве — как же закончить беседу и разойтись.
Я попытался прорваться напролом через народ, чтобы пообщаться лично. Неужели — Иоанн? А если нет, то кто он такой? Как он может знать все это и говорить так уверенно об Иисусе Христе?
Пробиваться через толпу и одновременно следить за передвижением Иоанна, было сложно. Я протолкался как раз вовремя, чтобы увидеть, как он повернул в переулок между зданиями. Он направлялся к Бубль-Гум Аллее, кирпичной стене, раскинувшейся на сорок ярдов и соединявшей торговый район с автомобильной стоянкой. Свое название она обрела вместе с тысячами блямбами отжеванных остатков жевательной резинки, налепляемых на эту самую стену в течение долгих лет. Цветовой ряд создавал картину если не в стиле импрессионизма, то уж точно отдавал гротесковыми веяниями.
Он был всего в четырех с половиной метрах от меня, когда исчез за поворотом, а я утешил себя мыслью, что теперь никто не помешает нашему разговору, поскольку других преследователей не наблюдалось. Я повернул за угол, уже готовый окликнуть незнакомца, но остановился, в изумлении обозревая аллею.
Там никого не было. В полном замешательстве я вернулся на улицу — точно ли он свернул именно сюда? Я смотрел в оба направления, вдоль и поперек, но зеленой толстовки незнакомца нигде не наблюдалось. Ну, он же точно пошел сюда. Я был уверен. Однако не мог же он пролететь сорок ярдов за три секунды, которые мне потребовалось, чтобы свернуть вслед за ним.