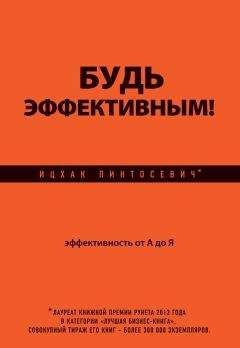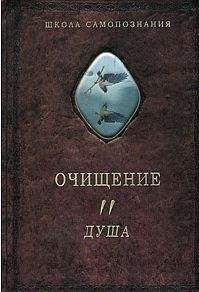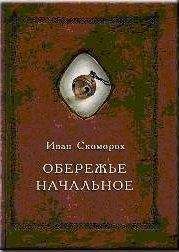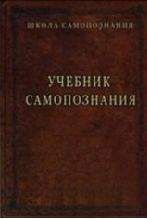Александр Шевцов (Андреев, Саныч, Скоморох) - Очищение. Том 1. Организм. Психика. Тело. Сознание
Дильтей приводит к этой мысли:
«Тождество, в котором процессы связаны во мне, само не процесс, оно не переходяще, а пребывающе, как сама моя жизнь, оно связано со всеми процессами.
Точно так же этот единый существующий для всех предметный мир, который был до меня и будет после меня, находится передо мною, как ограничение, коррелят, противоположность этому «Я» со всяким его сознательным состоянием. Таким образом, сознание этого мира — не процессы и не агрегат процессов.
Но все остальное во мне, кроме этого коррелятного отношения мира и «я», есть процесс» (Там же, с. 101–102).
Корреляция — это взаимозависимость. Сознание и есть тот посредник, через который «Я» связано с миром. Точнее, им оказывается та часть сознания, которая называется образом мира. Это отчетливо звучит в словах: этот мир находится передо мною как коррелят, противоположность этому «Я». Передо мной находится не мир, а его образ, который есть важнейшая часть меня, но не я. Все остальное — процессы.
«Процессы эти следуют один за другим, но не как повозки одна позади и отдельно от другой, не как ряды солдат в движущемся полку, с промежутками между ними: тогда мое сознание было бы прерывным, ибо сознание без процесса, в котором оно состоит, есть нелепость.
Наоборот, в моей бодрствующей жизни я нахожу непрерывность. Процессы в ней так сплетаются один с другим, и один за другим, что в моем сознании постоянно что-то присутствует. Для бодро шагающего путника все предметы, только что находившиеся впереди него или рядом с ним, исчезают позади него, а на смену им появляются другие, между тем как непрерывность пейзажа не нарушается» (Там же, с. 102).
Этот простенький образ, возможно, является одним из величайших достижений всей современной психологии. И так же возможно, что сам Дильтей не сумел его оценить. Это было слишком просто: заглянуть в себя и описать, что ты видишь. В этом не было великого усилия, как в создании наукоучения, например.
Да и вы, я думаю, ощущаете, читая эти его строки, что так может сказать каждый. Потому что это естественно. Величие же рождается, когда вы делаете нечто противоестественное, оно пищит и сопротивляется, а вы его все равно запихиваете в надуманную вами форму.
Но если бы Дильтей пригляделся к тому, что сам сказал, то поразился бы, прочитав, что сам свои «процессы» называет предметами, мимо которых он проходит в движении той самой точки, которая является источником осознавания и называется «Я». Явления сознания— это процесс и вещь, как фильм, записанный на пленке, — вот что, в сущности, он сказал здесь.
Но не менее важно и то, как он описывает следование этих процессов-предметов одного за другим — без разрыва, но в постоянной смене. По сути, хотя это и не очень удачное описание, оно все же ставит вопрос или задачу: описать подробно и точно, а как же явления сознания меняют друг друга? И если это описание будет сделано точно, то можно задаться вопросом: а что управляет сменой этих явлений? Как устроено сознание с этой точки зрения?
Но это, как видите, все вопросы об устройстве сознания. А что же такое сознание как таковое? Какой-то ответ можно получить вот из этого утверждения:
«Я предлагаю обозначить то, что в какой-либо данный момент входит в круг моего сознания, как состояние сознания, status conscientiae. <…> Сравнивая между собой эти временные состоянии сознания, я прихожу к заключению, что почти всякое из них, как то можно доказать, включает в себя одновременно представление, чувство и волевое состояние» (Там же, с. 102–103).
Во-первых, отсюда следует, что состояния сознания состоят из представлений, чувств и «волевых состояний», которые я бы назвал желаниями. И если следовать ранее высказанной мысли Дильтея, которая, в сущности, сводила сознание к его содержанию, то, как это ни странно, такое определение вообще отменяет понятие сознания. Сознание в данном случае оказывается всего лишь узлом напряжений, линзой, через которую Я видит собственные чувства, образы и желания.
Судите сами, состояния сознания, как «то, что в данный момент входит в круг моего сознания», есть лишь состояние я, осознающего то, что входит в поле его внимания. Иными словами, на мой взгляд, Дильтей постоянно, иногда даже внутри одного предложения, разрывается между двумя понятиями сознания. Он постоянно хочет доказать, что сознание — это лишь действие я, осознающего нечто в себе. Но использует для доказательства образы из другого понятия сознания, которое есть некое пространство или среда, хранящие в себе идеи различных вещей и сквозь которое путешествует сознающее их Я.
Это противоречие научного и донаучного понятий сознания выступает у Дильтея ярче и болезненнее, чем у большинства его собратьев по философии сознания. При этом даже предельная естественность одного из них, — то есть ощущения сознания пространством, — оказалась не в силах победить мощное стремление выглядеть преуспевающим ученым, а значит, и описывать мир так, как принято в Науке, а не так, как видишь. И Дильтей и все прочие философы сознания очень стараются писать так, чтобы собратья по научному сообществу узнавали в них настоящих ученых.
Что ж. Книги их, как и книги тех, кто пишет о них, узнаются как высоконаучные с первого взгляда. Но вот понять, что же такое сознание, из этих книг нельзя. Зато можно запомнить несколько способов говорить о сознании так, чтобы все сразу понимали, кто среди нас самый умный или ученый!
И тем не менее. Лично для меня эта болезненная битва Вильгельма Дильтея с самим собой дала возможность задуматься о сознании каким-то новым образом. Я все равно не понимаю, как прийти к очищению сознания, но я теперь могу идти сквозь свое сознание, как пространство, загроможденное лишними предметами.
Их так много, что я даже не успеваю замечать, как одни меняют другие. Но если я уменьшу количество этих предметов, не начнут ли они меняться медленнее? А если они начнут меняться медленнее, откуда они приходят и куда уходят? А там, глядишь, я рассмотрю и то, что заставляет их впрыгивать в мое сознание, как чертиков из табакерки, и насильно заставлять меня сознавать себя? А это уже приближение к свободе.
Глава 7. Философия жизни Бергсона
Анри Бергсон (1859–1941) был младше Вильяма Джеймса, о котором я расскажу в следующей главе. Но при этом свою главную работу, посвященную сознанию, — «Непосредственные данные сознания» (Essai sur les donnes immediates de la conscience) — он написал на год раньше, чем Джеймс написал свой главный труд «Принципы психологии». К тому же Бергсон развивает философию жизни, и в этом он может считаться родственным Дильтею. Поэтому я ставлю его впереди Джеймса.
Чем особенно интересен Бергсон в рамках рассказа о метафизике и очищении, так это тем, что он прямо провозглашал «необходимость создания "позитивной метафизики", опирающейся на конкретный опыт, но сохраняющей (вопреки позитивизму) сущностные черты именно философского знания. Бергсон увидел путь к решению этой задачи в "очищении опыта" путем возврата к "непосредственным данным сознания"» (Блауберг. Бергсон, НФЭ). Это уже почти разговор об очищении сознания.
Начинал Бергсон, скорее, как естественник, точнее, математик. И к философии он пришел через математику. Он сам рассказывал о том, как все начиналось для него:
«…На самом деле, метафизика и даже психология привлекали меня гораздо меньше, чем исследования, относящиеся к теории науки, особенно к теории математики; в докторской диссертации я собирался исследовать фундаментальные понятия механики. Так я занялся идей времени. Я не без удивления заметил, что ни в механике, ни даже в физике вовсе нет речи о собственно длительности, а «время», о котором там говорится, — нечто совсем иное.
Тогда я задался вопросом о том, что такое реальная длительность, и чем она могла бы быть, и почему наша математика не может ее уловить. Так постепенно я перешел с позиций математики, которые вначале разделял, на точку зрения психологии. Из этих размышлений и возник "опыт о непосредственных данных сознания", где я пытаюсь с помощью абсолютно непосредственной интроспекции постичь чистую длительность» (Цит. по: И. Блауберг. Анри Бергсон и философия длительности // Бергсон. Собрание сочинения, с. 10).
Уже это высказывание требует нескольких замечаний. Во-первых, Бергсон был теоретиком Науки, что означает, что цель, которая его вела по жизни, была в том, чтобы создавать и усиливать Науку. До себя ему дела не было, как не было дела и до самопознания.
Во-вторых, он пишет, по крайней мере, свою первую работу еще как математик, решивший пофилософствовать. И даже когда он много лет спустя рассказывает об этой работе, он все еще не философ и не психолог по внутреннему состоянию. Вчитайтесь для примера в эту его фразу: «Я не без удивления заметил, что ни в механике, ни даже в физике вовсе нет речи о собственно длительности, а «время», о котором там говорится, — нечто совсем иное». Эти слова возможны, только если стоишь в месте, принадлежащем Механике или Физике, но не из человека, как это делает психолог.