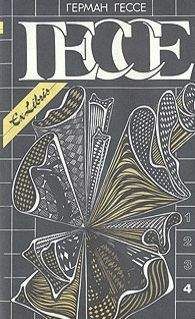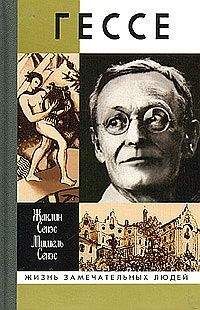Герман Гессе - Игра в бисер
Правати смотрела на это все, разумеется, по-иному, хотя она гораздо меньше думала об этом, чем ее супруг! О Нале она вообще не думала. Если воспоминания не обманывали ее, она одна и составила счастье Дасы, она добилась этого счастья и основала его, это она сделала его снова раджой, подарила ему сына, отдала ему свою любовь, осчастливила его и в конце концов вынуждена была признаться себе: он недостоин ее величия, ее гордых замыслов. Ведь она была убеждена, что будущая война приведет только к поражению Говинды, а тем самым и к удвоению ее могущества, ее богатств. Но вместо того, чтобы радоваться этому и самому ревностно трудиться над достижением этой цели, Даса недостойным князя образом противился войне, словно ничего так страстно не желал, как состариться в покое среди своих цветов, деревьев, попугаев и книг. Разве можно поставить его рядом с начальником конницы Вишвамитрой, вместе с ней Вищвамитра – самый ярый сторонник войны и скорой победы. Сколько она ни сравнивала его с Дасой, победителем всегда выходил этот храбрый воин.
Сам Даса прекрасно видел, что жена его сблизилась с Вишвамитрой, видел, как она восхищалась им и позволяла восхищаться собой этому веселому, дерзкому, быть может, не очень умному и несколько поверхностному военачальнику, который всегда так громко смеялся, у которого были прекрасные крепкие зубы и холеная борода. С горечью смотрел на это Даса, но вместе с тем и с презрением, с тем насмешливым равнодушием, которое он сам на себя напускал. Он не выслеживал их, да и не желал знать, перешагнула ли дружба этих двоих границы дозволенного, границы приличия. На эту влюбленность Правати и красивого полководца, на то, что она предпочла его чересчур уж негероическому супругу, Даса смотрел с тем же внешне безразличным спокойствием, однако с внутренним ожесточением и горечью, с какими он приучил себя смотреть на все, происходящее вокруг. Намеревалась ли она изменить ему, предать его, или это было только выражением ее презрения к образу мыслей Дасы – было не так уж важно, но что-то росло и развивалось, надвигаясь на него, как надвигалась война, как сам рок, и не существовало ничего, способного остановить это, не было другого выбора, как принять это и смиренно сносить свою участь, ибо в этом и заключался героизм и мужество Дасы, а совсем не в воинственных набегах и не в желании захватить чужие земли.
Оставалось ли восхищение Правати полководцем или его ею в пределах дозволенного, в пределах приличия или нет, во всяком случае – и он понимал это – Правати приходилось тут винить куда меньше, чем его самого. Он, Даса, мыслитель, мучимый сомнениями, был склонен приписывать женщине вину за растаявшее свое счастье или хотя бы считать ее в ответе за то, что сам запутался во всем: в любви и тщеславии, в стремлении отомстить и в разбойничьих набегах на земли соседа; да, в мыслях он считал женщину, любовь, сладострастие в ответе за все на земле, за всю эту дикую пляску, лихорадку страстей и желаний, за прелюбодеяние, смерть, убийство и войну. Но при этом он хорошо сознавал, что Правати вовсе не виновница и не причина всего этого, она сама жертва, ни ее красота, ни его любовь к ней не сделали ее тем, чем она была, она лишь пылинка в Солнечном луче, капля в потоке, и это был его долг уклониться от встречи с этой женщиной, от любви к ней, от жажды счастья, от тщеславных мыслей и либо остаться пастухом, довольным своей судьбой, либо пойти тайными путями йогов и преодолеть в себе несовершенное. Он упустил эту возможность, он потерпел поражение, к великому он не был призван или же сам изменил своему призванию, и жена его не так уж не права, называя его Трусом. Но зато у него есть сын от нее, красивый ласковый мальчик, за которого он так боится и само существование которого все еще придаст его собственной жизни смысл и цену, порождает ощущение великого счастья. Правда, такое счастье причиняет боль, внушает страх, но все же это счастье, его счастье. И за это счастье он расплачивается страданиями и горечью в сердце, готовностью идти на войну, на смерть, сознавая, что идет навстречу року. Там, по ту сторону границы, сидел раджа Говинда и мать убитого Налы, этого недоброй памяти соблазнителя, она без конца подстрекала Говинду на новые и новые набеги, и тот делался все наглей; только союз с могущественным раджой Гайпали придал бы Дасе достаточно сил, чтобы заставить злого соседа хранить мир. Но Гайпали, хотя и был расположен к Дасе, состоял в родстве с Говиндой и самым вежливым образом уклонялся от всех попыток заключить подобный союз. Нет, некуда Дасе деваться, нечего ему надеяться на разум и человечность, судьба надвигалась и надо было ее выстрадать. Даса сам уже почти желал прихода войны, хотел, чтобы низверглось наконец это скопище молний, ускорились бы все события, которых все равно не избежать. Он еще раз побывал у князя Гайпали, без всякого успеха обменялся с ним любезностями, предлагал в совете проявлять терпение и осторожность, но делал все это уже без особой надежды и – вооружался. В совете мнения теперь расходились только в одном: ответить ли на очередной набег врага походом в его страну или же дожидаться, когда враг сам начнет войну, чтобы тот предстал перед народом и всем светом в роли нападающего и нарушителя мира.
Однако враг не отягощал себя подобными вопросами и в один из дней положил конец всем этим рассуждениям, советам и колебаниям, напав на княжество Дасы. Сперва он инсценировал крупный набег на пограничные земли, заставивший Дасу и его начальника конницы в сопровождении лучших воинов поспешить к рубежам страны, и когда Даса был еще в дороге, неприятель ввел в бой главные силы, подошел к столице, ворвался в ворота и осадил дворец. Узнав о том, Даса немедленно повернул и поскакал обратно, и сердце его сжималось от жгучей боли, когда он думал, что сын его и жена заточены в осажденном дворце, что над ними нависла смертельная опасность и на улицах идет кровавый бой. Теперь его уже никак нельзя было назвать миролюбивым, осмотрительным военачальником – он обезумел от боли и ярости и в дикой скачке понесся со своими людьми к столице, застал на всех улицах кипящий бой, пробился к дворцу, вступил в рукопашную схватку с врагом и бился, словно бешеный, покуда наконец на закате этого кровавого дня в изнеможении и весь израненный не рухнул наземь.
Когда сознание вернулось к нему, он уже был пленником, сражение проиграно, а город и дворец заняты врагом. Связанного Дасу подвели к Говинде, тот с насмешкой приветствовал его и велел отвести в покои, те самые, что были с резными стенами и позолотой и где хранились многочисленные свитки. На ковре, прямая, с окаменелым лицом, сидела его жена Правати, за ней стояли стражи, а на коленях у нее лежал его сын Равана94. Сломанным цветком поникло его безжизненное тело, лицо посеревшее, платье в крови. Жена не обернулась, когда ввели Дасу, она и не взглянула на него, без всякого выражения, не отрываясь, она смотрела на маленького мертвеца. Дасе она показалась странно изменившейся, и только немного спустя он заметил, что в волосах ее, несколько дней назад еще иссиня-черных, повсюду сквозила седина. Должно быть, она уже давно так сидела, застывшая, с лицом, превратившимся в маску, а мертвый мальчик лежал у нее на коленях.
– Равана! – закричал Даса. – Равана, сын мой, цветок мой! – Он упал на колени, прильнув лицом к голове мальчика; как на молитве, стоял он коленопреклоненный перед умолкнувшей женой и сыном, оплакивая обоих, поклоняясь обоим. Он чувствовал запах крови и тлена, смешавшийся с ароматом розового масла, которым были умащены волосы ребенка. Ледяным взглядом смотрела Правати на обоих.
Кто-то тронул Дасу за плечо – это был один из военачальников Говинды, он приказал ему встать и увел прочь. Ни единого слова не сказал Даса Правати, ни единого она ему.
Связанным его бросили на повозку и доставили в столицу княжества Говинды, где заточили в темницу; здесь с него сняли часть оков, солдат принес кувшин с водой, поставив его на каменный пол, и удалился, замкнув дверь на засов. Одна из ран на плече горела огнем. Ощупью Даса нашел кувшин, смочил руки и лицо. Его мучила жажда, но он не стал пить – так он скорее умрет, решил он. Когда же это все кончится, когда же? Он жаждал смерти, как его пересохшая глотка жаждала воды. Только смерть избавит его сердце от пытки, только смерть навсегда сотрет в его душе образ матери с мертвым сыном на коленях. Но среди всей этой муки слабость и полное изнеможение как бы пришли ему на помощь, он опустился наземь и тут же задремал.
Пробудившись от короткого сна, еще ничего не сознавая, он хотел было протереть глаза, но не смог, обе руки оказались занятыми, они что-то держали. Тогда он окончательно проснулся, открыл глаза и не увидел никаких стен – повсюду был разлит яркий, ликующий свет: на деревьях, па листве, на мху. Даса долго моргал, этот свет ударил его бесшумно, но с огромной силой, и страшная дрожь пронизала его с головы до пят, он моргал и моргал, лицо его исказилось, словно в приступе плача, и наконец он вновь широко открыл глаза. Он стоял в лесу и держал в руках наполненный водой сосуд, у его ног переливался родник то зеленым, то бурым цветом, там, за папоротниковой чащей, он знал, находится шалаш и там его ждет йог, пославший его за водой, тот самый, который так странно смеялся, когда он просил рассказать ему о майе. Так, значит, он не проиграл сражения, не потерял сына, не был князем, не был отцом, и все же йог исполнил его желание и показал ему, что такое майя: дворец и сад, книги и птицы, княжеские заботы и отцовская любовь, война и ревность, любовь к Правати и мучительное недоверие к ней – все это было Ничто. Нет, не Ничто, все это было майя! Даса стоял потрясенный, слезы катились по щекам, в руках дрожал и колебался сосуд, которым он только что зачерпнул воды для отшельника, влага плескалась через край и сбегала по ногам. Ему почудилось, будто от него что-то отрезали, что-то изъяли из головы, и образовалась пустота: так внезапно он потерял столь долгие прожитые годы, оберегаемые сокровища, испытанные радости, перенесенную боль, пережитый страх и отчаяние, которые он изведал, дойдя до самого порога смерти, – все это у него отнято, сгинуло, стерто, превратилось в Ничто и все же не в Ничто! Остались воспоминания, целые картины запечатлелись в мозгу, он все еще видел: вот сидит Правати, огромная и застывшая, с поседевшими в один миг волосами, а на коленях лежит сын, и кажется, будто это она сама задушила его, будто это ее добыча, а руки и ноги ребенка, словно завядшие стебельки, свисают с ее колен. О, как быстро, как чудовищно быстро и страшно, как основательно ему показали, что такое майя! Все куда-то отодвинулось, долгие годы, полные столь значительных событий, оказались сжатыми в мгновенья, и все, что представлялось ему такой насыщенной реальностью, все это он видел только во сне. А вдруг и все остальное, что было до этого, вся история о княжеском сыне Дасе, его пастушеской жизни, его женитьбе, его мести, его бегстве к отшельнику – вдруг все это были только картины, какие можно увидеть на резных стенах дворца, где среди листьев изображены цветы и звезды, птицы, обезьяны и боги! А то, что он, пробудившись, переживал и видел сейчас, после утраты княжества, после сражений и плена, то, что он стоит сейчас у источника с сосудом в руках, из которого опять выплеснулось немного воды, все его мысли – не из того же ли они материала, не сон ли все это, не мишура, не майя? А все, что ему еще предстоит пережить, увидеть глазами, трогать руками, пока наконец не наступит смерть, – разве это будет из другого материала, разве это будет что-то другое? Нет, вся эта прекрасная и жестокая, восхитительная и безнадежная игра жизни, с ее жгучими наслаждениями и ее жгучей болью, – только игра и обман, только видимость, только майя.