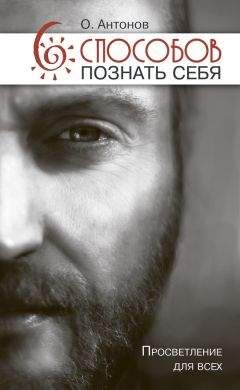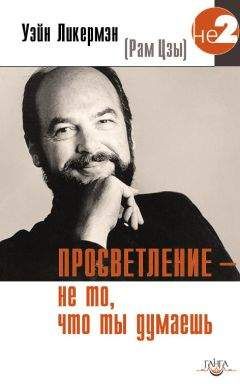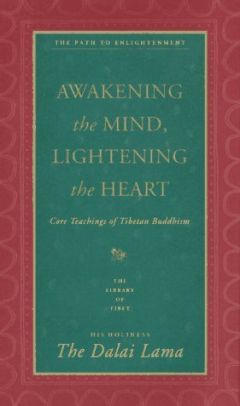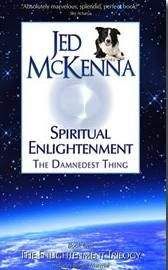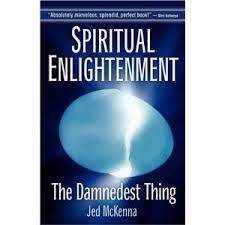Джон Уайт - Что такое просветление
– Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас станет счастлив, сию минуту. (…) Я вдруг открыл.
– А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку – это хорошо?
– Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот и вся мысль, вся, больше нет никакой! (…) Кириллов промолчал.
– Они нехороши, – начал он вдруг опять, – потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас станут хорошими, все до единого.
Обычно можно почувствовать резкий контраст между изумительной структурой человеческого организма и его мозга, с одной стороны, и тем, для чего большинство людей ее использует, с другой. И все же, наверное, можно допустить точку зрения, по которой естественное чудо организма просто затмевает убогие трюки поверхностного сознания. Подобным образом, такое странное раскрытие видения не позволяет вниманию оставаться сфокусированным исключительно на деталях зла; они оказываются менее значимыми в сравнении со всепроникающей разумностью и красотой общего устройства.
Такой проблеск интуиции не имеет ни малейшего отношения ни к "необоснованному оптимизму", ни к схватыванию смысла Вселенной в терминах какого-нибудь изящного философского упрощения. Помимо этого, в любых философских суждениях или рассуждениях звучит что-то вроде утонченного варианта детских выкриков: "Вот!" – "Нивот!", "Вот!" – "Нивот!" – продолжающегося у детей до тех пор (если бы философы смогли поступить так же!), пока они не уловят бессмысленность этого и повалятся наземь с оглушительным хохотом. Больше того, будучи очень далеким от чопорного рационализма мистера Панглосса, переживание имеет тенденцию возникать в ситуациях всецелой экстремальности или отчаяния, когда у человека не находится никакой другой альтернативы, кроме как полностью сдаться.
Что-то вроде этого произошло со мной во сне, когда мне было лет восемь. Я в то время болел и от жара почти впал в беспамятство, и в сновидении обнаружил себя распростертым лицом вниз на огромном стальном шаре, который вращался вокруг Земли. В сновидении я с совершенной уверенностью знал, что обречен вращаться в этом ужасном изнурительном кружении навсегда, и убежденность в этом была такой твердой, что не оставалось ничего другого, кроме как сдаться – ведь то была сама преисподняя, и ничего, кроме вечно длящейся боли, у меня не оставалось. Но в тот самый миг, когда я сдался, мой шар как бы ударился о какую-то гору и рассыпался вдребезги, и сразу вслед за тем я обнаружил себя сидящим на полоске теплого песка среди искореженных стальных обломков шара. Это, конечно, не было опытом "Космического Сознания", а просто переживанием того факта, что, отпуская себя в экстремальных обстоятельствах, направляешься прямо сквозь проблему, а не в сторону от нее.
То, другое переживание пришло ко мне гораздо позже; оно было вдвое интенсивнее и сопровождалось тем, что скорее следовало бы назвать сиянием, а не блистающей вспышкой. Вскоре после начала моих занятий индийской и китайской философией я сидел однажды ночью у огня, пытаясь разобраться, в чем состоит правильная предустановка ума при медитации, практикуемой в индуистской и буддийской традициях. Мне казалось, что здесь возможны несколько умственных установок, но, поскольку выглядели они взаимоисключающими и противоречивыми, я старался свести их к одной-единственной – без какого бы то ни было успеха. В конце концов с полнейшим отвращением к результатам своих стараний я решил отказаться от них всех и впредь не устанавливать для практики вообще никакой установки ума. Оказалось, что, силясь их отбросить, я отбрасываю и себя самого, поскольку внезапно тяжесть моего тела исчезла. Я чувствовал, что не обладаю ничем, не обладаю даже своим я, и что сам в свою очередь ничему не принадлежу. Весь мир стал таким же прозрачным и беспрепятственным, как мой собственный ум; "проблема жизни" просто перестала существовать, и в течение почти восемнадцати часов я сам и все вокруг меня воспринималось как листья на ветру в осеннем поле.
Во второй раз переживание имело место несколькими годами позже, после периода, когда я пытался практиковать то, что буддисты называют "собиранием" (smriti ), или непрерывным осознанием непосредственного настоящего момента, в отличие от привычной череды бессвязных отвлечении на воспоминание прошлого и предвосхищение будущего. Но вот однажды вечером кто-то из тех, с кем я его обсуждал, спросил: "Зачем же пытаться жить в настоящем? Несомненно, мы всегда и всецело в настоящем, даже когда думаем о прошлом или о будущем". Это и в самом деле вполне очевидное замечание снова вызвало у меня внезапное ощущение потери веса. В то же время настоящее как бы стало своеобразной движущейся безмолвностью, вечным потоком, из которого ни я, ни что-либо другое не смогли бы выйти. Я увидел, что все на свете, именно такое, как оно существует сейчас, это ОНО – та точка полноты, в которой должна быть жизнь Вселенной. Я понял, что когда в Упанишадах говорится: "Ты есть То!" и "Весь этот мир есть Брахман", то подразумевается именно то, что сказано. Любая вещь, любое событие, любое переживание в их неизбежном "сейчас" и во всех их собственных частных индивидуальностях являются именно тем, чем им следует быть, и это соответствие настолько точно, что они приобретают божественную весомость и оригинальность. До меня дошло с полнейшей ясностью, что ни одна вещь не зависит от моего видения ее такой; вещи существуют так, как они есть, понимаю я их или нет, а если я их не понимаю, то это тоже ОНО. И больше того, я чувствовал, что теперь понимаю, о чем могут думать христиане, когда говорят о любви Бога, а именно, что, несмотря на общеизвестное несовершенство вещей, они все равно любимы Богом такими, каковы они есть, и что эта любовь одновременно обожествляет их самих. В тот раз живое ощущение света и ясности сохранилось у меня на целую неделю.
Эти переживания, усиленные другими, последовавшими за ними, стали с тех пор оживляющей силой во всех моих писательских и философских трудах, хотя я пришел к пониманию того, что суть не в том, каким образом я чувствую, – все равно, присутствует действительное чувство свободы и ясности или же нет, ибо чувство тяжести или ограниченности – это тоже ОНО. Но с этого момента философ сталкивается со странной проблемой коммуникации, особенно затруднительной, если его философия проявляет некое родство с религией. Люди поддаются, надо полагать, устойчивому впечатлению, что об этом предмете говорится или пишется с целью их усовершенствования или принесения им какого-то блага, и предполагают при этом, что говорящий или пишущий сам уже усовершенствовался и способен теперь высказываться авторитетно. Другими словами, философ невольно оказывается в роли проповедника, и от него ожидается непременное выполнение той практики, которую он проповедует. Вследствие этого истинность того, что он говорит, проверяется по его характеру и нравственным качествам: проявляет ли он тревожность, зависим ли от "материальных костылей" вроде вина или табака, нет ли у него язвы желудка, пристрастен ли он к деньгам, склонен ли впадать в гнев или в депрессию, влюбляется ли в неподобающих обстоятельствах и не выглядит ли подчас слегка усталым и потрепанным. Все эти критерии могли бы быть вполне существенными, если бы этот философ проповедовал свободу от человеческого облика или же если бы он пытался радикально улучшить себя самого и других.
На протяжении одной жизни почти у каждого человека есть, конечно же, возможность самосовершенствоваться – в пределах, определяемых энергией, временем, темпераментом и тем уровнем развития, с которого он начал. Есть, очевидно, в этом и надлежащее место для проповедников и других технических консультантов в делах человеческого совершенствования. Однако подобные улучшения могут производиться в определенных границах, достаточно малых по сравнению с обширными аспектами нашей природы и наших обстоятельств, которые остаются теми же самыми и плохо поддающимися совершенствованию, даже если оно желательно. Поэтому я считаю, что, несмотря на желательность и возможность улучшения себя и других, разрешение проблем и умение справляться с ситуациями, это совершенствование ни коем случае не должно становиться единственным или даже главным делом жизни. Не должно это быть и принципиальной работой в философии.
Люди добиваются исполнения своих целей в огромной круговращающейся Вселенной, которая, как мне кажется, не имеет вообще никакой цели в нашем смысле. В природе гораздо больше игрового начала, чем целесообразности, и не стоит удивляться как некому ее дефекту вероятности того, что у нее нет каких-либо специальных целей в будущем. Наоборот, природные процессы, как мы видим их и в окружающем мире, и в непроизвольных проявлениях нашего собственного организма, куда больше напоминают искусство, чем бизнес, политику или религию. Особенно похожи они на искусство музыки и танца, которые разворачиваются без направленности к каким-то будущим результатам. Никому и в голову не придет, что симфонии надлежит улучшаться в своем качестве по ходу исполнения и что все дело для исполнителей заключается в достижении ее финала. Суть музыки раскрывается в каждом мгновении ее исполнения и слушания И точно так же, я полагаю, обстоит дело с наибольшей частью нашей жизни, и у тех, кто чрезмерно поглощен ее улучшением, бывает, что они забывают ее прожить. Музыкант, чьей главной заботой становится в каждом выступлении сыграть лучше, чем в предыдущем, настолько лишает себя участия в собственной музыке и удовольствия от нее, что впечатлять аудиторию ему придется лишь тревожным трепетом своей техничности.
Итак, работу философа в главном ее содержании ни в коем случае не следует ставить в один ряд с деятельностью моралистов и реформаторов. В духе художника присутствует такая вещь, как философия, любовь к мудрости Его философия никогда не будет проповедовать и призывать к каким-либо видам практики, ведущей к самосовершенствованию. Работа философа-артиста, насколько я ее понимаю, состоит в том, чтобы открывать и восславлять вечный и бесцельный процесс человеческой жизни. Просто от избытка переживаний и от изумления он хочет рассказать другим о той точке зрения, с которой мир невообразимо хорош таким, каков он есть, и люди хороши такими, каковы они есть. Независимо от того, насколько может оказаться сложной попытка выразить такую точку зрения и не впасть при этом в невнятицу, не выглядеть безнадежным мечтателем, какая-то подсказка обязательно найдется, если философу посчастливилось испытать подобное самому
Для тех, кто упрямо видит в любом виде деятельности одно лишь стремление к цели, это может прозвучать как намерение и желание улучшиться Беда в том, что наш западный здравый смысл остается негибким, аристотелевским, и мы поэтому убеждены, что воля никогда не действует кроме как ради какого-то блага или удовольствия. Но при аналитическом рассмотрении этого убеждения проясняется, что мы делаем не более того, что делаем. Ведь если мы всегда делаем то, что нам нравится (даже совершая самоубийство), нет никакого способа указать на то, что доставляет нам удовольствие, независимо от того, что мы делаем Применяя подобную логику, я лишь бросаю камень обратно туда, откуда он появился, ведь я отчетливо сознаю, что выражение мистического опыта не выдерживает логической проверки Однако, не в пример последователю Аристотеля, мистик не претендует на логичность Сферой его опыта является неизъяснимое И тем не менее эта потребность означает не более того, что речь идет о сфере физической природы, о том, что является не просто отвлеченными понятиями, числами или словами.
Если опыт "космического сознания" неизъясним, то оказывается, что, пытаясь облечь его в слова, человек не "говорит" ничего в смысле обмена информацией или высказывания утверждений Речь, выражающая подобный опыт, больше похожа на восклицание. Или, лучше сказать, это речь поэтическая, а не логическая – причем поэтическая не в обедняющем смысле логика-позитивиста, а в смысле декоративной и прекрасной бессмыслицы. Существует разновидность речи, которая способна сообщить о чем-то, будучи не способной об этом сказать. С этой трудностью столкнулся Кожибский [9], когда пытался выразить простую как будто мысль о том, что вещи не есть то, чем они являются в сказанном о них, и что, например, слово "вода" само по себе нельзя выпить. Он формулировал это в "законе неидентичности": "Вещь не является ничем из того, чем, как вы говорите, она является". Но из этого последует, что она и вещью тоже не является, ведь если я говорю, что вещь есть вещь, то она не есть вещь. О чем тогда мы говорим? Кожибский пытался признать, что мы говорим о неизъяснимом мире физической Вселенной, о мире, который является иным, чем слова. Слова представляют его, но если мы хотим узнать его напрямую, то нам следует делать это через непосредственный сенсорный контакт. То, что мы называем вещами, фактами или событиями, есть прежде всего не более чем удобные единицы восприятия, узнаваемые вешалки для названий, отобранные из бесконечного множества окружающих нас линий и поверхностей, цветов и текстур, пространств и плотностей. Такой способ разделения бесчисленных вариаций на отдельные вещи является не более устоявшимся и окончательным, чем принцип группировки звезд в созвездия.
Из этого примера, впрочем, несомненно ясно, что мы способны указать на неизъяснимый мир и даже выразить идею его существования, будучи не в состоянии сказать точно, что он такое Мы не знаем, что это такое. Мы знаем лишь, что это есть. Чтобы иметь возможность сказать, что он такое, мы должны быть способны классифицировать его; однако очевидно, что то "все", в котором очерчивается полное многообразие вещей, не поддается классификации.
Я полагаю, что сфера "космического сознания" – это то же самое, что "неизъяснимость мира" у Кожибского и других представителей семантики. Там нет ничего "духовного" в обычном абстрактном или идеационном смысле. Она конкретно физична и вместе с тем по той же самой причине невыразима (или неизъяснима) и неопределима. "Космическое сознание" – это освобождение от самосознания, то есть от того фиксированного убеждения и чувства, что твой организм является абсолютной и отдельной вещью, отличной от соответствующей единицы восприятия. Ведь если становится очевидным, что разделение нами мира линиями и поверхностями на единичные предметы производится лишь для удобства, то все, что я назвал собой, в действительности неотделимо ни от чего другого. Это именно то, что испытываешь в интересующие нас экстраординарные моменты времени. И те контуры и очертания, которые мы называем вещами и используем для описания вещей, вовсе не исчезают в какой-то лучезарной пустоте. Просто становится ясно, что, хотя их можно использовать в качестве разделяющих, на самом деле они ничего не разделяют. Как бы сильно ни был я впечатлен различием между звездой и темным пространством вокруг нее, мне не следует забывать, что видеть то и другое я могу только благодаря соотношению того и другого, а это соотношение неразделимо.
Самой, впрочем, удивительной чертой такого опыта является убежденность в том, что весь этот неизъяснимый мир "правилен", настолько правилен, что наше нормальное беспокойство делается смехотворным, что если бы люди сумели увидеть это, они обезумели бы от радости.
И король бы обрезал кусты,
И священник – рвал цветы.
Совершенно отдельно от трудности соотнесения этого мироощущения с проблемой зла и боли встает вопрос о самом смысле утверждения "Все будет хорошо: и все будет хорошо, и весь порядок вещей будет хорош". Сам я могу лишь сказать, что смысл утверждения заключается в переживании самом по себе. Вне этого состояния сознания оно не имеет никакого смысла, так что в него даже поверить как в откровение трудно без настоящего собственного опыта. Ведь в настоящем переживании делается совершенно очевидным, что вся Вселенная – это игра любви в полном смысле слова и в любом оттенке словоупотребления – от животной похоти до божественного милосердия. Каким-то образом сюда включается даже гибельность биологического мира, где каждая тварь живет тем, что пожирает других тварей. Привычная для нас картина этого мира оборачивается так, что теперь каждая жертва предстает как приношение себя в жертву.
Если бы нас спросили, истинно ли такое мировидение, мы ответили бы для начала, что нет такой вещи, как истина сама по себе, – истина всегда соотнесена с точкой зрения. Огонь жгуч по отношению к коже. Структура мира являет себя такой, как она нам предстает по отношению к нашим органам чувств и мозгу. Поэтому определенные изменения в организме человека могут превратить его в некий вид субъекта восприятия, для которого мир будет таким, каким он выглядит в этом мировидении. Однако какие-то другие изменения в человеческом организме с равным успехом дадут нам истину мира такой, каким он видится шизофренику и разуму, поглощенному депрессией.
Существует, тем не менее, возможное возражение против наивысшей истины "космического" переживания. Основывается оно попросту на том, что никакая энергетическая система не способна на совершенный самоконтроль, если не прекратит движение. Контроль – это ограничение в движении, а поскольку полный контроль будет, надо полагать, полной ограниченностью, то возможность контроля всегда должна оставаться менее значимой, чем возможность движения, если движение должно быть вообще. Что касается –человека, то полная ограниченность в движении равнозначна тотальному сомнению, отказу в доверии собственным чувствам и ощущениям во всех отношениях. Наверное, воплощением ее является экстремальная кататония с отказом от всякого движения и всякой коммуникации. С другой стороны, движение и снятие ограниченности равнозначны доверию, вверению себя неконтролируемому и неизвестному. В крайней форме это должно означать отдачу самого себя предельному непостоянству, и, на первый взгляд, жизнь вот так неразборчиво доверившегося ей как будто соответствует видению мира, в котором "все правильно". Все же такая точка зрения должна исключать любой контроль как неправильность, а значит, в ней нет места и для правильности ограничения. Существенную часть "космического" переживания составляет, тем не менее, то, что нормальная ограниченность сознания в рамках чувства Эго тоже правильна, но не всегда и только потому, что она имеет меньшую значимость, чем отсутствие ограничений в движении и доверии.
Дело просто в том, что, если есть какая бы то ни было жизнь и какое-либо движение, основополагающей должна быть установка на веру (заключительная и фундаментальная установка), а установка на сомнение должна оставаться вторичной и менее значимой. Это еще один способ сказать о том, что философ-артист, занимающийся необъятным и всеобъемлющим фоном человеческой жизни, должен всецело подтверждать и принимать этот фон. Иначе у него не будет вообще никаких оснований для предусмотрительности и контроля по отношению к деталям, выступающим на передний план. Однако слишком легко оказаться настолько втянутым в эти детали, что пропадет всякое чувство соразмерности, и слишком легко свихнуться в стремлении все на свете поставить под свой контроль. Мы становимся безумными, невменяемыми и лишенными основательности, когда теряем доверчивое осознание того неконтролируемого и неуловимого фонового мира, который в предельном смысле и есть то, чем являемся мы сами. А если и есть какая-то разница между совершенным сознательным доверием и любовью, то она очень мала.
* * *