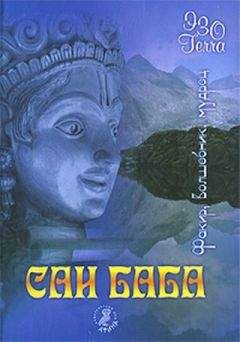Сьюзан Грубар - Иуда: предатель или жертва?
Скептику, продолжающему страдать от не искупаемой боли и бедности, слова Иисуса кажутся в лучшем случае донкихотством, в худшем — плодом возбужденного рассудка.[362]В таком сценарии Иуда вовсе не стремится осознанно предать или навредить своему бесстрашному учителю, но понимает или чувствует (и даже страшится), что это необходимо сделать. Пользующийся доверием близкий друг, Иуда наделяется дискреционной силой сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить успех Иисусу. Но по своему разумению, в силу своих способностей и представлений, Иуда оценивает ситуацию в духе, не согласующемся с тем, как видит ее Его обожаемый друг. И в данном случае для оценки роли Иуды в Драме Страстей Господних применим принцип прямой причинности, не сопряженной с нравственной ответственностью: возможно, двенадцатый апостол был виновен в неумышленном причинении вреда; но Иуда не продумывал или не осознавал полностью всех последствий своих действий. Справедливы или ошибочны его постоянные сомнения, но сознание, обремененное тлетворным знанием, страдает, пребывая в безрадостном состоянии постижения своей противоречивой линии поведения, но не видит выхода. В этом смысле Иуда-аномалия напоминает Иисуса, с которым он связан и который часто проявляет нерешительность и колебания по поводу той миссии, что Ему надлежит исполнить.
Подобная историческая траектория не только отображает нарастающую неопределенность в воззрениях на добро и всемогущество Бога и Сына Божьего, но и высвечивает растущую универсальность Иуды. Писатели все чаще обращаются к его воображаемому субъективному характеру для постижения человеческого состояния. Противоречивые портреты множатся. Двигаясь по своей траектории от бесславия к признанию, Иуда выступает то в роли виновного преследователя жертвы, то в роли невинной жертвы; то в роли любовника, то в роли человека ненавидимого; то в роли радикального борца, то в роли традиционного консерватора; то в роли проницательного, вдумчивого, сомневающегося, скептика, то пылкого, истового верующего. Но на всем своем пути он периодически, вновь и вновь, соотносится с Иисусом. Так как чрез такое соотнесение творческое сознание пытается разрешить вопрос о зле вреда. Но как в истории об измене противоположные друг другу Иисус и Иуда могут отражать друг друга? И что подобное соотнесение двух действующих лиц Драмы Страстей Господних говорит нам о зле или вреде?[363]
Зеркальное отражение позволяет вскрыть общность двух антагонистов и таким образом препятствует строгому разграничению категорий доверия (Иисус) и предательства (Иуда), как препятствует ему и тот факт, что вина и невиновность могут меняться местами с развертыванием исторической траектории. Сопоставление Иисуса и Иуды в Драме Страстей питается их схожестью, которую невозможно замолчать, их симметрией — пугающей, но явно подходящей для истории, в которой благо спасения проистекает из зла распятия. Бесчисленные переосмысления Драмы свидетельствуют о настоятельной и не проходящей потребности обвинить кого-нибудь, любого, за распятие Иисуса или за неискупленное состояние человечества — смерть, страдание, несправедливость, — о потребности найти преступника и подвергнуть его или ее жестокой критике. Этот «разыскиваемый преступник» есть «самый востребованный преступник».[364] Но на любом этапе исторической эволюции, выводящей Иуду из бесславия, соотнесение его с Иисусом доказывает, что возложить неопровержимое бремя вины на кого-либо, увы, невозможно. Даже самые необычные образы Иисуса и Иуды подтверждают потребность человеческого сознания закрепить за кем-то ответственность за распятие или за смертность, страдание, несправедливость и… невозможность сделать это. Иными словами, соотнесение понуждает прервать цикл поиска козла отпущения.[365]
Поскольку по мере развертывания исторической траектории соотнесение высвечивает контекстуальные неясности, допускающие различные толкования, и взаимосвязанность Иисуса и Иуды, а также переменчивость моральных оценок предательства доверия. Кроме того, оно акцентирует двойственную предрасположенность людей к доверию и недоверию или предательству доверия, взаимодействие или взаимозависимость того, кто преисполнен милосердия, и того, кто его лишен, их способность и готовность действовать ради другого или вместе с другим, и через это — зависимость добра от зла, а зла от добра. Предпочитая соотнесение Иисуса и Иуды их противоположению, мастера искусств, упомянутые в этой книге, делают акцент на конфликтах внутри каждого из них — как Иисус, так и Иуда со временем обретают все более противоречивые характеры. Зеркальное двоение Иисуса и Иуды, как и субъективные противоречия внутри каждого из них, препятствуют открытому чернению двенадцатого апостола, а то и вовсе делают его невозможным. Подобная тенденция наблюдается не только в живописи и литературе, но и в обрядности: «Иуда Пасхальный» — так называется седьмой или средний подсвечник в церквах, который поднимается почти до свода и на который в Пасхальную неделю водружается восковая Пасхальная свеча. Симметрией также объясняется и то, почему английское сленговое выражение или восклицание удивления «Judas Priest!» («Черт возьми!») является эвфемизмом Иисуса Христа. Возможно, Иуда игнорировался из-за того, что ученые страдали тяжелой формой катоптрофобии — боязни зеркал, — что объясняет суеверия, связанные с разбитыми зеркалами, которые иногда завладевали и мной.[366]
Примечательно, что Иуда может быть полностью реабилитирован только в версиях, в которых вина за неискупленное состояние человечества возлагается на Бога или Сына Божьего. Вина измены просто перелагается на другого агента. Такой сюжет получил распространение в XX в. А не так давно его вытеснил сценарий, акцентирующий аномальность персонажей, стремящийся разрешить нерешенные дилеммы, но избегающий искать виновных! Впрочем, общая тенденция все же такова: кто-то, да должен ответить за случившееся — если не Иуда, то Иисус; если не Иисус, то Бог. И все же соотнесение Иуды и Иисуса даже в самых изобличительных сценариях, например сюжет с изгоем, делает невозможным простое указание пальцем. Исторически — по мере того, как Иуда проходит свой путь от бесславия к признанию, — Иисус избегает обратной метаморфозы: Он не становится бесславным. Вместо того, Он утрачивает Свою силу, влияние. Иисус и то доверие, которое Он Собой воплощает, становятся все более слабыми, уязвимыми, все более подтачиваются чуждыми Иисусу и отчуждающими Его от людей силами, всячески препятствующими спасению, которое Он хочет принести людям.
Пренебрегая траекторией эволюции Иуды, которую я стараюсь исследовать, мыслители и художники, о которых шла речь на страницах этой книги, пытались логически, доказательно объяснить акт предательства. Это и понятно: последователь, предающий своего вождя, — хрестоматийный пример для исследования критериев оценки того или иного поступка, хорошего или плохого, благого или пагубного. Но нередко мотивация, предлагаемая романистами, художниками, драматургами, поэтами и богословами опирается на мотивацию философов морали и нравственности, три различных подхода которых к этике проясняют, почему Иуда продолжает оставаться для нас загадкой. Любые попытки разгадать головоломку Иуды исходя из этических критериев неизбежно порождают противоположные и противоречивые суждения о его виновности и целесообразности оправдания. Приговоры разнятся в зависимости от того, основываются ли они на последствиях, на принципе или на характере.[367]
Рассмотрим сначала выводы тех, кто исходит из последствий, определяя правомочное деяние, как благое, добро с благотворным результатом. Ссылаясь на то, что древнее Евангелие от Иуды, как и некоторые современные сочинения, согласуется с толкованием Драмы Страстей Господних гностиками, они защищают версию о том, будто Иуда помог Иисусу обрести божественность. А при оценке его действий ставят во главу угла важность конечного результата. Не принимая во внимание весь ужас распятия, которому придал ход Иуда, они рассматривают конечный результат распятия: благо искупления. И исходя из этого конечного результата — величайшее благо для огромного количества людей, — они считают действия Иуды добродетельными безотносительно к тому, какими он сам их считал. Предательство было необходимо для спасения человечества через смерть и Воскресение Иисуса. На «необходимом, без которого было не обойтись», выражаясь словами Немерова, лежит «felix culpa» («счастливая вина»), как на Адаме и Еве, чье грехопадение имело последствием появление Спасителя, поскольку без предательства Иуды не могло реализоваться обещание вечной жизни.
Но данная биография сосредотачивается на поведении, приоритет которому отдают многие другие философы морали и нравственности. В отличие от тех, для кого важен результат, этики и моралисты, придающие особое значение максимам и правилам правильного поведения, скорее всего, расценят поведение Иуды как непозволительное, недопустимое, а его решения и поступки — как безнравственные. Первый пункт их приговора гласит: нарушение обещания или доверия. Роль апостола, поручившегося в верности своему учителю, налагала на Иуду особые обязательства — а разве не отказался Иуда от исполнения своих обязанностей или не разорвал свое соглашение с Иисусом и тем самым уклонился от уплаты своего долга благодарности? Вождю или учителю подобает выказывать преданность, и любые переговоры с его противниками (в нашем случае — переговоры Иуды с врагами Иисуса) недопустимы. Второй пункт приговора — ложь: разве Иуда не нарушает права Иисуса и не наносит Ему обиду своей лживой доверительностью на Тайной Вечере? Третий пункт: несоблюдение долга, обязанностей перед самим собой — разве, лишая себя жизни, Иуда не нарушает законы бытия? Категоричный императив Канта требует соблюдения долга; каждый человек должен поступать так, чтобы принципы его поведения могли стать всеобщими законами. Но если все будут поступать так, как Иуда, — что с нами будет?