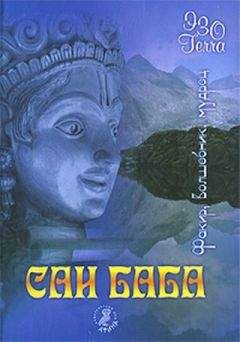Сьюзан Грубар - Иуда: предатель или жертва?
Сомнения по поводу служения Иисуса со временем все больше одолевают Иуду. Не только обещания свободы и мира после смерти, даваемые Иисусом, звучат «как пустые обещания и угрозы, что отвлекают внимание от тех ужасов, что творят люди в реальном мире» (144). Иисус требует внимания и низкопоклонства, и Иуда начинает опасаться за рассудок своего Учителя и за его безопасность. Не потому ли Иисус требовал веры или нуждался в ней, что «Сам Он с трудом верил в историю, даже когда Он возвещал ее, даже когда вершил ее» (152)? Растущий скептицизм Иуды — вот причина его предательства: «Мое “предательство” состояло лишь в моем отказе утверждать то, во что я не мог верить» (171). Когда миролюбивый Иисус (агнец) превращается в воинствующего Иисуса (льва), Иуда только еще сильнее обеспокоивается тем, что «наш вождь страдает временным умопомешательством» (175). Даже мирное послание надежды и доверия ввергает Иуду в беспокойство — ведь он убежден, что «те, кто просит, не обрящут, те, кто ищут, не найдут» (184).
Иуда в храме, опасающийся не только репрессий мстительных римлян, но и чрезмерно возбужденной речами ораторствующего учителя толпы, со страхом наблюдает, как опрокидываются столы менял и жертвенных животных, всей душой желая «вывести Иисуса оттуда и спасти его от ареста» (205). Будучи не в силах убедить Иисуса вернуться домой, казначей учеников тратит тридцать монет из денежного ящика, чтобы снять комнату на верхнем этаже иерусалимской таверны для празднования еврейской Пасхи. Хотя он сомневается в мессианской природе Иисуса, Иуда остается преданным своему другу детства. Он, не задумываясь, прерывает Его моление в Гефсиманском саду — «то, что Он делает, это самоубийство» — лишь бы успеть упредить Иисуса о приближении храмовых стражей. Увы, тщетно. В конце своего рассказа Иуда терзается муками, но не виной, поскольку он никогда не продавал и не выдавал Иисуса:
«Я чувствовал гнев, гнев от крушения надежд и отчаяния. Как Он мог учинить такое с собой? Как могли мы, Его друзья, допустить это? Свой гнев я мог обратить только на себя — ведь я видел, что происходит, но оказался слишком слаб, чтоб противостоять ему. Я не смог спасти Его от Самого Себя или, если вам угодно, от всемогущего садиста, создателя неба и земли, чьим сыном Он себя воображал» (229).
Занимающий срединную позицию в подходе к Драме Страстей Господних между позициями Робертсона Джефферса и Жозе Сарамаго, Стеда в своем романе «Меня звали Иуда» ставит дружбу в самый центр истории. Храмовым начальникам не удается подкупить Иуду; он не целует и не предает Иисуса; он — один из всего лишь двух апостолов, которые до конца остаются стойкими и непоколебимыми (второй — Петр Симон). В одном из фрагментов романа, когда Иисус сравнивает себя с Иаковом, Иуда чувствует беспокойство — ведь «Иаков имел брата, и брат его Исав, жадный негодник, продал свою половину их общего наследства за чашу похлебки». И вот Иуда спрашивает: «А кто Твой Исав?» Стед вкладывает в уста Иисуса ответ, выражающий главную идею его романа: «Исава нет» (106). Позднее, когда Иуда станет свидетелем того, как Иисус обращается к Каиафе: «ты увидишь Сына Человеческого, что восседает по правую десницу Господа, как сходит сквозь облака небесные», он искренне удивится — а верит ли или нет Сам Иисус в то, что Он — Сын Человеческий: «Мое сердце сильно забилось, слыша столь отважную речь. Как было бы замечательно, окажись это правдой! Как прекрасно, если Он знал, что это не так, и все же сказал эти слова!» (220)
Последний крик распятого Иисуса о том, что Бог оставил Его, превращает скептицизм Иуды в атеизм: «Так я узнал, что Бога нет» (231). Не мог же любящий и всеведущий, всемогущий создатель допустить страдание невинного. Не верящий евангелистам, утверждающим, будто видели они воскресшего Иисуса, Иуда истолковывает собственные видения — «Я видел Его на улице… слышал Его голос, доносящийся из открытого окна» — только как последствия своего сильного потрясения: «Наши мертвые всегда с нами. Но они мертвы» (235). На протяжении всего романа Иуда Стеда демонстрирует смятение, растерянность, колебания, духовную преданность человека, глубоко сочувствующего, но все же не доверяющего ни традиционной вере свои родителей, ни новой вере своего лучшего друга. По версии Стеда, Иуда олицетворяет многих людей, которые поначалу с энтузиазмом поддерживают дело и любимого сотоварища, но затем обнаруживают, что внешние обстоятельства и их собственные внутренние убеждения предательски побуждают их отступиться — покинуть или обмануть надежды союзника. «Сожаление» — такое прозвище мог бы иметь такой вот дружественный, но скептичный Иуда.
Даже когда авторы, рисующие образ скептичного Иуды, представляют его впадающим в атеизм, они оправдывают его сомнения в мессианском служении Иисуса уважением к Торе. В подобных случаях они изображают не стереотипного иудея Иуду, а Иуду, с одной стороны, проявляющего по отношению к Иисусу почтительность, традиционно питаемую иудеями к своему духовному учителю, а, с другой стороны, подверженного традиционным для иудеев сомнениям в том, что Иисус — Сын Божий. Поскольку в библейские времена мессия представлялся как Богом избранный смертный царь, который будет помазан на царствие в Израиле, провозглашение Иисусом Себя Сыном Божьим могло вызывать недоумение у слушателей. Мессиями или пророками, избранными Богом править людьми, были такие фигуры, как Саул и Давид. Стюарт Э. Розенберг в связи с этим отмечает: «Всегда — и тому подтверждением любой пример из Библии — “помазанным” был человек, а не божественное лицо» (S. E. Rosenberg, 34, выделено автором). Барт Д. Эрман напоминает нам, что «до христианства иудейская традиция просто не допускала идеи Мессии, который может умереть, а затем воскреснуть из мертвых» (В. D. Ehrman, Lost Gospel [«Потерянное евангелие], 159, выделено автором). Иными словами, преобладающее большинство людей, живших в библейские времена, и предположить не могли, что Мессия может быть распят. Не умирающего и воскрешающего, не творящего чудеса Мессию ждали они, а Мессию, который бы возглавил Божий народ. В 1-м Послании Коринфянам (1: 23) «Павел признает, что когда он благовествовал среди иудеев, ужасный факт распятия Иисуса являлся почти непреодолимым препятствием для любого, кто слышал о нем; среди же язычников его слова о свершенном преступлении звучали безумием» (Pagels and King, 13).
Уже сам факт того, что Иисус предсказал Свою смерть, возможно, вызывал и множил сомнения в его мессианском предназначении. Знал или нет Иуда, что предание Иисуса приведет к Его распятию, но двенадцатый апостол — как и поколения иудеев после него — колебался между почтительностью к вдохновенному и вдохновляющему учителю, с одной стороны, и неизбежной и естественной для иудея того времени подозрительностью или даже неприятием заявлений Иисуса о своей божественной природе. До того как он стал подвергаться неминуемому поношению, его сторонники уже разделились. Иудей Иуда, строго соблюдающий заповеди еврейской Библии и отважно отстаивающий свои убеждения, оказывается перед печальной необходимостью нравственного выбора, продиктованного противодействующими моральными кодексами: либо он предает свою общину, либо — своего друга. Страшащийся нового порядка и не готовый окончательно порвать со старым, он не верит в основательность или истинность обещанной революции. Резким контрастом радикальной деятельности неустрашимого повстанца девятнадцатого века предстает выбор Иуды-скептика — суровый в своей консервативности. Но то, что такой скептический Иуда часто появляется на сцене начала двадцать первого века, свидетельствует о том, «иудейский» подход к Драме Страстей Господних начинает завоевывать все большее доверие. Подобный конец необычайно сложной, запутанной «творческой» истории двенадцатого апостола вновь доказывает, что он мог вызывать как злобу и затаенную враждебность, так и восхищение, но всегда оставался притягательным для исследователей и художников, стремящихся преодолеть потаенные препоны взаимоотношений христианства и иудаизма.
Пугающая симметрия
В конце романа «Меня звали Иуда», через многие годы после распятия, верный герой Стеда открывается другому апостолу только для того, чтобы его заклеймили дьяволом и прокляли. На эту клевету умудренный прожитыми годами Иуда отвечает: «Это была новая теология, и она придала мне определенный статус — гораздо ниже, чем Иисуса, конечно, но важного действующего лица в метафизической драме. В любом случае меня почтили» (241).[355] В предыдущих главах я старалась следовать правилу любого биографа: подчеркивать значимость своего персонажа, апеллируя к тем версиям, в которых — даже чернимый — этот второстепенный персонаж признавался «важным действующим лицом в метафизической драме». Но что же характеризует эволюцию нашего переменчивого Иуды в целом, с самого начала и до конца его пути, и как его трансформация отражала изменявшееся отношение к Иисусу?