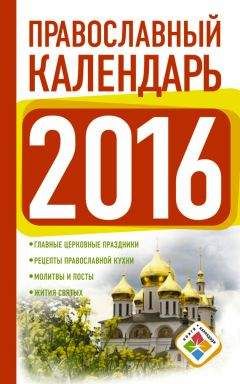Сергей Хоружий - После перерыва. Пути русской философии
Далее, не удивляет уже — но не может не отразиться на оценке работы — и то неожиданное обстоятельство, что при всем объеме труда, претендующего на полноту освещения русского идеализма, на поверку едва ли не все главные представители последнего оказываются в книге отсутствующими. Растянуто излагая многих незначительных и совсем побочных для традиции авторов, книга полностью обходит влиятельнейших и крупнейших — Флоренского, Булгакова, Е. Трубецкого, Карсавина; отсутствуют Эрн (за вычетом абсурдного зачисления в кантианцы), Шпет, еле упоминается Франк (ср. ниже). Это — если о лицах. А в горизонте идей, целиком утерянной оказывается, не говоря уж о прочем, вся русская софиология — истинное ядро русского идеализма, едва ли не единственное и, во всяком случае, крупнейшее философское направление, родившееся в России.
И в своем происхождении, и в развитии русский идеализм сохранял тесные, многообразные связи с христианской религией: с ее догматикой, учением о церкви, богословием и православным, и западным. Поэтому серьезная эрудиция в религиозных вопросах — одно из самых необходимых условий того, чтобы понимать русскую философию и судить о ней. Напротив, труд М. несет на себе печать глубочайшего невежества в вопросах религии. Следующий пример достаточно красноречив: «Уже Ф. Штраус и Бр. Бауэр неопровержимо доказали, что это евангелие (Евангелие от Иоанна) — наиболее мистичное из всех синоптиков» (с. 459). Неизбежное следствие религиозного невежества — неспособность отличить в этой сфере общее от особенного, новое от старого, частное мнение — от общепризнанных устоев. Чтение профессора М. —тяжелое и невеселое дело; и все же нельзя не развеселиться, когда ученый автор цитирует с атеистической похвалою, как дерзкое вольнодумство и «смерть теологии» ...парафраз общеизвестного изречения апостола Павла (с. 477—78). В этой же связи (и не только в этой) нужно сказать и о так называемом «светском богословии». Это — крупный и очень характерный элемент русской духовной традиции, с которым связаны многие ее важные вехи, от «Философических писем» Чаадаева до «Света Невечернего» Булгакова. Автор, как кажется, вообще не ведает о его существовании и, ощупью набредя на одного из его представителей, В.И. Несмелова, писавшего уже на грани нашего века, приписывает ему первооткрывательство всех вечных тем и вопросов «светского богословия», давно обсуждавшихся, скажем, Хомяковым и Киреевским.
Все сказанное говорит об одном и том же: автор владеет своим материалом на недопустимо низком, убийственно низком, на примитивном и безграмотном уровне. В сочетании с этою примитивностью, с тем, что он явно не постигает львиной доли в существе разбираемых учений, его покушения на иронию, на позицию свысока, оборачивающиеся лишь распущенной грубостью, производят особенно тяжелое впечатление — карикатурное и отталкивающее. И сказанного, по сути, уже достаточно для вполне обоснованной оценки книги. Тем не менее, ради полноты суждения, мы добавим и некоторые основные замечания касательно конкретных разделов.
***
Будем здесь краткими. По поводу большого раздела о Вл. Соловьеве сказать можно многое; но главное, пожалуй, вот что. Все знают, на каких центральных понятиях зиждется метафизика Соловьева: это всеединство, София, в историософии и некоторых других разделах — теократия. Так вот: на всех 120 страницах соловьевской главы ни одно из этих понятий не нашло обсуждения! Без конца склоняя громкое слово, именуя всю систему Соловьева «философией всеединства», философ М. как-то не подумал поставить вопрос: а что же это такое — всеединство? Откуда произошло это специфическое понятие, столь много значившее для русской мысли? И как именно трактует его Соловьев? Пойдем далее. В основе всей ранней метафизики Соловьева — принцип «критики отвлеченных начал». Началами отвлеченными или отрицательными Соловьев именует такие, которые устанавливаются сознанием в итоге критической, дискурсивной работы над данными опыта, а также над началами положительными или религиозными, которые не вырабатываются сознанием, но принимаются верою[2]. У автора же читаем: «Западные мыслители... хорошо понимают несостоятельность отрицательных отвлеченных начал. И они же совершенно беспомощны в утверждении положительных отвлеченных начал», (с. 279, курсив М.). Или чуть дальше: «решающее в положительной отвлеченности — мистическое начало». Но у Соловьева «положительность» и «отвлеченность» полярно противопоставляются друг другу, отвлеченность — всегда порок, заведомо отрицательное свойство! И все подобные обороты — чистейшая бессмыслица, доказывающая полное непонимание ключевых категорий Соловьева.
Можно было бы указать еще множество ошибок, нелепостей, несостоятельных возражений автора против философии Соловьева. Воздержимся от этого, нужды уже нет. Но еще одно я считаю долгом сказать. Личность Соловьева, его духовный облик, еще дальше от понимания профессора М., чем его философия. И уж совсем за семью замками для него — предсмертный период Соловьева — период необычайный, полный интенсивного творчества, тревожных прозрений, странных предчувствий... Для здравого ума автора тут — одна психопатология. Он это и пишет, не обинуясь: в конце жизни Соловьев «стал впадать в психические пароксизмы и быстро сгорел» (с. 350). Отсюда естественно следует, что «Три разговора» — по своему влиянию, одна из главных книг во всей вообще русской философии — не стоят обсуждения по существу: для их полного объяснения достаточно указать на ...«кошмары и галлюцинации», что «часто навещали больного и измученного» философа. Таково заключительное суждение М. о Вл. Соловьеве.
Совсем бегло скажем о других разделах. Глава о неокантианстве, очень мягко говоря, недостаточно продумана. Начало ее вполне логично: автор перечисляет философов, принадлежащих к данному направлению, и подразделяет их на две группы, тяготеющие, соответственно, к марбургской и баденской школам немецкого неокантианства. Однако далее ни один из этих философов не рассматривается, обсуждаются же совсем другие, в указанной классификации отсутствующие. Впрочем, и они обсуждаются недолго, а едва ли не с половины главы речь идет уже о взглядах М.И. Каринского, который, во-первых, был антикантианцем, а во-вторых, уже с пространностью излагался в другой главе. Извлечь из всего этого какую-либо разумную картину русского неокантианства, разумеется, невозможно. В главе об интуитивизме автор рассматривает лишь учение Лосского, однако при этом постоянно и неправомерно приписывает его положения и понятия неким собирательным «интуитивистам». В действительности же, многие из этих понятий и положений (в частности, и центральное понятие «субстанционального деятеля») отнюдь не принимались в учении Франка, которое по значению нисколько не уступает учению Лосского, но автором вовсе не обсуждается (упоминаемые им ранние статьи Франка к нему не относятся). О неогегельянстве. Без достаточных оснований сюда отнесен С.Н. Трубецкой, для которого философия Гегеля была лишь одним из влияний, не самым главным. Отсюда последовало и то, что, говоря о С. Трубецком, автор ограничивается лишь гегелевской темой в его творчестве, полностью упустив гораздо более важное: его роль как зачинателя нового этапа в постижении античной мысли в России. В этой области Трубецкой — непосредственный предшественник Вяч. Иванова, Флоренского, Лосева, и именно к ней относятся все его главные труды, о которых профессор не сообщает ничего, кроме названий. Далее, говоря об И. Ильине и в основной части раздела отнюдь не касаясь никаких общественных тем, в конце автор переходит внезапно к патетическому финалу о Великом Октябре и о том, как после него «Ильин и его друзья» (?) призвали якобы отрешиться от мира и затвориться в глубинах души. Все это — полная дичь не менее чем в трех отношениях: по отсутствию логической связи с текстом, по неуместности тона и, наконец, по сути. Послеоктябрьские позиции Ильина были абсолютной противоположностью меланхолическому затворничеству. До последних дней жизни он был сторонником активной борьбы во всех ее формах, написав о том, в частности, широко известную книгу «О сопротивлении злу силой». И в заключение — о Бердяеве. Как известно, его коренной и глубоко личной темой была проблема свободы, над которой он напряженно размышлял всю жизнь, которой посвятил множество разработок. Памятуя об этом, что должен думать читатель, когда профессор М. бросает Бердяеву суровое обвинение — не в чем ином, как именно в «легковесном» подходе к теме свободы (с. 534)? Вообще, автор адресует Бердяеву очень много упреков. Было бы интересно, однако, счесть, сколько из них выдержат пристальное рассмотрение. Возьмем, к примеру, тезис Бердяева о том, что между религией и культурой существует противоречие и противоположность, поскольку «религия творит жизнь, культура же творит ценности». Автор утверждает, что тут Бердяев «противоречит сам себе», ибо коль скоро религия творит жизнь, то она оказывается и предпосылкой творчества ценностей, предпосылкой существования культуры (с. 524; мы, впрочем, прояснили его мутный слог). Однако отчего же культура не может для своего существования нуждаться в собственной противоположности? Всякий, у кого есть вкус к философии, заметит, что с существованием даже обыкновенно так и бывает. Возражение рушится мгновенно — и вовсе не потому, что философия Бердяева так уж неуязвима для критики. Нет, как и в тысяче других мест пухлого сочинения, корень тут просто в том, что его автор плохо умеет думать; и, право, лучше бы ему заниматься каким-нибудь другим делом...