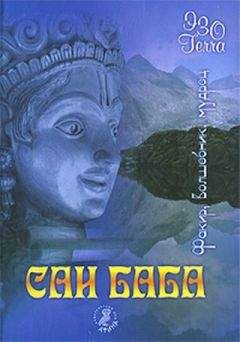Сьюзан Грубар - Иуда: предатель или жертва?
Шагал предполагает, что христиане, соучаствуя фашизму, взяли на себя роль предателя, отрицая происхождение своего мессии и уничтожая Его народ. Историк искусств Зива Амишай-Майзелс об образе, вызывающем острую полемику в рядах еврейских критиков, говорит так: «самый священный христианский визуальный символ, Распятие, был использован для того, чтобы предъявить обвинение христианству, а образ, бывший анафемой для евреев, стал символом их мученичества» (Amishai-Maisels, 104). Неспособный защитить свою паству или победить ее врагов, обезоруженный Сын Божий Шагала был пригвожден к кресту теми же людьми, что поджигали деревни, пытали кричащих от боли людей и преследовали бегущих матерей с пеленатыми младенцами. Картина воплощает вездесущий принцип предательства, обрекающий евреев на страдания и Иисуса на муки, здесь соединившиеся.[313] Не обещая воскресения, картина Шагала навевает в памяти рассказ Эли Визеля о мальчике, повешенном эсэсовцами перед тысячами заключенных в Буне, один из которых спросил, стоя за спиной Визеля: «Где же Бог? Где Он?» — вопрос, на который юный Визель про себя ответил: «Где Бог? Вот Он — висит на перекладине…» (Wiesel, 62).
Визель, вспоминая первую ночь по своем прибытии в концентрационный лагерь, клянется, что никогда не забудет «те моменты, что убивали моего Бога и мою душу и обращали мои мысли во прах» (32). В своем размышлении 1944 г., затрагивающем картину Шагала и выстраданную книгу «Ночь» Визеля (1960 г.), заключенный Бонхоффер размышляет о том, как ранимый и слабый «Христос [мог] стать Богом атеистов» (Letters and Papers, 280): «Бог, пребывающий с нами, это Бог, который нас оставляет (Марк 15:34). Бог/который допускает, чтобы мы жили в мире без рабочей гипотезы о Боге, это Бог, с которым мы сталкиваемся постоянно. Пред Богом и с Богом мы живем без Бога. Бог допускает, чтобы Его самого изгнали из мира, распяв на кресте. Он слаб и бессилен в мире, и только в таком виде он может пребывать с нами и помогать нам». (360)[314]
* * *Бог, который признал свое бессилие в мире, не искупает ни грехи христиан, ни творит чудеса, а страдает, как часть еврейского народа.[315] Один современный христианский мыслитель, пытаясь преодолеть зло христианского антисемитизма, сравнивает геноцид с кремацией Иисуса и евреев: «Когда Тело Христа найдут в Освенциме, Его достанут из сонма жертв, а не обнаружат сокрытым среди католических и протестантских и православных охранников и начальников» (Littell, 131).[316]
До и после того, как Шагал создал свое полотно, художники сравнивали Иисуса с убиенными евреями, протестуя против мученичества человечества в годы Третьего рейха. Пособничая нацистам или выказывая безразличие к страданиям евреев, разве не подменили христиане крест свастикой? В 1930-е гг. один немецкий и один американский фотограф вовлекли христианство в несчастье национал-социализма, включив распятие в эмблемы Третьего рейха. «Как в Средние века, так и в Третьей империи» (1934 г.) Джона Хартфилда и «Скелет или Свастика» (1936) Пола Стренда осуждали христианство за причастность к мучению европейских евреев. Истощенная или скелетообразная, принесенная в жертву форма становится фигурой любого и всякого, чью плоть обрекало на разрушение или уничтожение слово Гитлера. За какие бы идеалы не умер Иисус — любовь-доброта, милость к угнетенным, воплощение божественного в человечестве, обещание вечной жизни, — все они омертвели в пророческих предвоенных фотокомпозициях.
Более поздний «Поцелуй Иуды» (1994 г.) Иржи Андерле, напоминающий раскрытый старинный фолиант, размышляет о кризисе в Христианском мире, который высветил Холокост: На его левой странице показано орудие пыток, возможно, копье, которым был пронзен распятый Иисус, возможно, камера и цапля; справа— лицо, столь замазанное, что хорошо различим лишь терновый венец.[317] Среди грозных орудий слева — три креста на Голгофе с двумя женскими фигурами у основания одного из них, с центральной фигурой. Справа — несколько пар глаз под колючим терновым венцом. Возможно, «Поцелуй Иуды» Андерле намекает на другой аспект, который выявил Холокост, а именно то, что технологии войны действуют как поцелуй Иуды, пугая нас порабощающими инструментами силы, делая бессмысленным служение Христа.[318] В любом случае, когда Иисус переживает ужасные страдания на кресте Шагала или напоминающем граффити рисунке Андерли, нам сообщают о том, что катастрофические события XX столетия подрывают любые духовные институты, которые мы сделали обителью нашей веры. Как и искусства и науки, религии после Освенцима предстают варварскими.
Учитывая название Андерле, делающее неясным, кому же принадлежит центральное лицо — Иисусу или Иуде, а также вид реликвии (некоторые считают, что это — Тюрингская плащаница, или плат Вероники), его «Поцелуй Иуды» наводит нас на размышления о катастрофическом слиянии Иисуса и Иуды, несостоятельности божественного, сложном переплетении божественной милости и бесчестия, обрекающего на немилость. Таким же образом Иуда завладевает полотном Шагала. Обратите внимание на слияние у Шагала страдающего Сына Божьего с иудеями, но также и с Иудой. Подобно тому, как мученичество, что претерпел Бонхоффер, обвиненный в измене, свидетельствует в пользу слияния Иисуса и Иуды, точно так же всеобщность предательства могла предвещать хрупкость всех действующих лиц Драмы Страстей Господних, равно как и спасения, которое они стремились принести человечеству Запечатлев желтое распятие на фоне еврейского опустошения, Шагал намекает на традиционный цвет Иуды, золото, которое тот якобы воровал, и знаки, которыми нацисты наделяли евреев. Еврейский Иисус, воплощающий здесь распятие без воскресения, навевает в памяти единственного из апостолов, долгое время представлявшегося лишенным спасения, и берет на себя печальную невыполнимую миссию — отделить добро от горя или вины в эпоху после Холокоста. Если, как выразился один иезуит, «евреи являются не только народом Христа, но Христом всех народов», то Иуда — особенно после Холокоста — мог бы считаться Христом апостолов».[319] В синяках и кровоподтеках, снова и снова вынуждаемый пойти на ужасную смерть, Иуда, как и Иисус, «к злодеям причтен был» (Исайя 53:12) и был использован для причисления всех евреев к заслуживающим осуждения и порицания злодеям.[320]
После 1945 г. мученическая фигура напоминает Иуду, распятого на кресте предательства, которое он якобы спланировал и совершил. Когда принесенный в жертву Сын Божий Шагала предстает таким же уязвимым и оставленным Богом, как его чернимый двенадцатый апостол, эти двое вместе выражают то самое немыслимое на первый взгляд единение, ту самую сопричастность, на которую намекал в древности Блаженный Августин: «предал на смерть Сын, предал на смерть Иуда» (Tractates, 222-223). Иисус и Иуда, предающие себя, как представители ослабевшего Бога или те, кем сначала манипулировало, и от кого затем отказалось предумышленно могущественное божество, могут свидетельствовать только о беспомощности человечества. Но для кого? Когда Сын Божий и его народ умирают, несчастье грозит произойти незаметно. Хрупкие умерщвленные человеческие создания должны возвыситься до абстрактных сверхчеловеческих, идеалистических.
В предыдущей главе я отмечала, что Иуда Незаметный напоминает Иова утверждением бессмысленности своей злой доли. На полотне Шагала, где страдания Иисуса также показаны бессмысленными, где Сын Божий предстает оставленным Богом, Иисус неожиданно подтверждает пережитое Иудой бессилие.[321] Крайность катастрофы оказывает огромное давление на историю Драмы Страстей Господних; по крайней мере, такое предположение выдвигается в остальной части этой главы: мы увидим в ней сострадательного Иисуса нерешительным и слабым, поскольку Он и Иуда сближаются и вместе осознают непрочность веры в искупление, которую они стремятся утвердить. Соединяя Иисуса с еврейским народом и Иудой, художники после Второй мировой войны дают отпор попыткам нацистских протестантов отсечь Иисуса от иудаизма и связать иудаизм с Иудой. В противовес нацистскому разделению арийского Иисуса и еврейского Иуды, логика не простительной бойни невинных приводит Шагала и Андерле к ошеломляющему предположению: о том, что, наряду с Иисусом, именно еврейский народ и апостол, долгое время его олицетворявший, подвергался мучениям, будучи обречен стать символами изменничества в повествовании Драмы Страстей. Распятие Шагала резко критикует тайное пособничество христианства геноциду евреев и делает это во имя — и от имени — Христа осажденного.
В конечном итоге осуждение нацистами евреев, как Иудиного народа, привело к послевоенным попыткам христиан искоренить или, по меньшей мере, отогнать идеи об Иуде-изгое. Жесткие послевоенные настроения, столь ярко проявленные на полотне Шагала, побудила ряд теологов, а в конце концов, и Второй Ватиканский собор установить моральную заповедь: то, что произошло во время крестных мук Иисуса, «не может быть обвинением всем евреям, ни жившим тогда, ни живущим сейчас», и что «евреи не должны быть представлены, как отвергнутые или проклятые Богом» («Nostra Aetate» — Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям). В 1959 г. Римский Папа Иоанн XXIII устранил фразы о «нечестивых евреях» из литургии на Страстную Пятницу, a «Nostra Aetate», провозглашенная в 1965 г. Папой Павлом VI, утверждала, что «Церковь, принимая во внимание наследие, которое она разделяет с евреями, и движимая не политическими соображениями, а любовью в духе Евангелия, осуждает ненависть, гонения, проявления антисемитизма, когда-либо и кем-либо направленные против евреев».[322] Стоит ли говорить о том, что подобные взгляды окрасили и без того неоднозначную жизнь Иуды во второй половине XX в. Еврейского Иуду-изгоя нельзя было вычеркнуть из сознания людей, хотя он и стал незаконным.