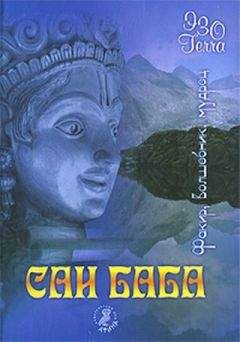Сьюзан Грубар - Иуда: предатель или жертва?
Как будто не желающий изображать «изменнические объятия и поцелуй», Фра Анжелико пользуется намеком Иоанна и воздерживается от изображения собственно поцелуя. Трактуя лобзание, как «знак любви», Св. Амвросий (ок. 339—397 гг.) задается вопросом, а можно ли вообще считать акт ненависти Иуды поцелуем: «Что за поцелуй мог быть у иудеев, коли не знали любви они и не приняли мира от Христа, сказавшего: “Мир Мой несу вам”… И фарисеи не целовали, поцелуем приветствовал лишь вероломный изменник Иуда. Но и то не был поцелуй, а то, что хотел он иудеям показать поцелуем, был знак предательства, и Господь сказал ему: “Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?” И тем подразумевал Он: целуешь ли ты, не ведая любви, сокрытой в поцелуе, целуешь ли ты, не ведая таинства лобзания? … Поцелуй выражает силу любви. Когда же нет любви, нет веры, нет близости, могут ли быть сладостными такие лобзания?» (цитируется по кн.: Perella, 28, выделено автором)[210] «Поскольку иудеи не знают любви, — комментирует этот фрагмент из Амвросия Майкл Филипп Пени, — они не могут обмениваться знаками любви» (Penn, 62). Во многих ранних христианских комментариях, рассуждает Пени, ритуальное лобзание соотносилось с Иудой, поскольку «ритуальное лобзание могло уподобляться поцелую Иуды; лживый христианин мог, как Иуда, целовать своими устами, но не сердцем» (117). Августин и многие его последователи пытались обозначить различия между нечестивым и лживым поцелуем Иуды и сакральным лобзанием любви и примирения. Именно их попытка дифференцировать лобзания доказывает, что каждый из этих участников ситуации «уста к устам» неизбежно напоминает о идее Другого.[211]
Боязнью иудиных «предательских объятий и поцелуев» или отвращением к ним вполне можно объяснить сомнения некоторых ранних католических мыслителей по поводу символичности литургического «поцелуя мира», равно как и то, почему ряд священнослужителей, поддержавших протестантскую Реформацию, поспешили искоренить практику обмена лобзаниями во время отправления богослужений и церковных обрядов. Поцелуй предателя нес в себе большой заряд ненависти, и поэтому — хотя ритуал взаимного приветствия перед причащением в Великий Четверги сохранился под названием «лобзание мира» — от целования во время него отказались. А в некоторых местах отказались и от обычая троекратного лобызания, «христосования», на Пасху. К концу XV в. «поцелуй мира» при встрече «лицом-к-лицу» часто заменяла т.н. «дощечка мира» — округлая или прямоугольная дощечка из дерева или драгоценного металла с образом Иисуса. Однако даже «дощечка мира» подверглась нападкам со стороны протестантских реформаторов, критиковавших идею о том, что тело и его движения и жесты могли отражать или выражать духовную трансформацию.[212]По их мнению, те верующие, которые приветствовали друг друга целованием или прикладывались устами к «дощечке мира», рисковали последовать по стопам вероломного изменника. «Отвергая лобзание мира, ранние протестанты внушали мысль, что все поцелуи на самом деле — Иудины» (Koslofsky, 26).
Лживые уста
Поцелуй не близкого по духу или крови, но враждебного Иуды лжив и коварен, как обманчивы и коварны поцелуи его «предшественников» в еврейской Библии. Ветхозаветному Авессалому, к примеру, с помощью своих поцелуев удавалось завладевать сердцами израильтян: чтобы обеспечить поддержку своему бунту против отца, Давида, «когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его» (2-я Царств 15:5). Исаака ввел в заблуждение поцелуй Иакова, обманом получившего его благословение; а военачальник Иоав, целуя Аммессая, поразил того своим мечом в живот (Бытие 27: 26-7; 2-я Царств 20: 9-10). Больше напоминающий Авессалома, Иуда прибегает к притворному поцелую, чтобы возбудить жестокость против своего Владыки. Художники, подчеркивающие садизм Иудиного поцелуя, как правило, используют два приема. Они разделяют Иисуса и Иуду по этнической принадлежности — наделяя Иуду африканскими или семитскими чертами, а Иисуса «обеляя». И они присоединяют Иуду к сонму агрессивных иудейских старейшин и римских воинов, идущих арестовать, связать, подвергнуть бичеванию и пригвоздить к распятию Иисуса.[213] Эти два изобразительных решения преследуют целью передать всю омерзительность объятия, в которое заключает Иуда Иисуса, поскольку черно-белая, семитско-кавказская пара аллегорически воплощает расовое кровосмешение, равно как и жуткую коллизию любви и ненависти, мира и войны. Если в этой паре для одних зрителей бездейственность, пассивность и целомудренная добродетельность Иисуса выявляет гипертрофированную мужественность и гротескную агрессивность Иуды, тогда как для других решительность атлетически сложенного Иисуса оттеняет пародийную женственность «паразитирующего, слабого» Иуды. Но каким бы ни выглядел двенадцатый апостол — слишком гротескно мужественным или слишком женственным — его объятие демонстрирует чрезмерную чувственность. Обозначенное уже на заре Нового времени многими художниками — в частности, такими знаменитостями, как Джотто или Дюрер, — странное физическое столкновение между Иисусом и Иудой фиксирует неподобающую близость грешника к самому святому из всех.
Меняя свою «расовую принадлежность» в ряде визуальных композиций — витражах, алтарных росписях, фресках и гравюрах — на протяжении довольно долгого периода, с XIV по XVII вв. включительно, Иуда предстает то выходцем из Африки, то уроженцем Ближнего Востока, то неприятным созданием, чертами смахивающим на неандертальца. Изображаемый на фоне вооруженных мечами воинов, варварский и грубый Иуда, обнимающий мертвенно-бледного Иисуса, навеивает ассоциации с вражескими ордами, агрессивными язычниками или азиатскими завоевателями, угрожающими Христианскому миру. В популярной эпической поэме Седулия «Пасхальная песнь» (ок. 425-450 гг.) святотатственная агрессия поцелуя двенадцатого апостола облекается в следующие слова:
«Сотрясая святотатственным лезвием меча и угрожая острием кола,
Ты прижимаешь губы свои к устам медовым и изливаешь яд свой,
За вкрадчивой лестью скрывая пред Владыкою истинный лик?
Что ты за друг и что за обман таит столь дружеское приветствие?
Ибо никогда добрая воля не пряталась за ужасные мечи,
А дикий волк не целовал невинного ягненка».
(Седулий, строки 63-68)[214]Роковое тяготение Иуды к невинной жертве изливается ядом или удовлетворяется в «диком» укусе, придавая чувственность жестокости повзрослевшего ребенка Иуды из Арабского Евангелия о Детстве Спасителя. Несущие потенциальную угрозу режущего удара, обрезания или кастрации «святотатственные лезвия» и «ужасные мечи» множатся вокруг темного и терзаемого плотским вожделением «волка», чья пасть готова пожрать белоснежного и эфемерного «невинного агнца».
Порицая чреватое перерождением и даже вырождением перекрестное смешение видов, бессчетные поэты после Седулия проклинали вызывающий дрожь поцелуй изменника в строках, немногим отличающихся от тех, что опубликовал в 1841 г. Роберт Стивен Хокер:
«Учитель! Радуйся! — змий вероломный прошипел,
Подкравшись тайно, зуб свой ядовитый обнажив,
И ядом тем обжег щеку Мессии. С Ним хотел
В лобзанье слиться он — Себя позором заклеймив!»
Физическое соприкосновение Иуды, ядовитого змия, и Иисуса, божественного агнца, притягивает художников внезапной сменой чувств, но также и откровенным садизмом двенадцатого апостола, алчущего испытать удовольствие при виде причиняемой боли.[215] Чтобы подчеркнуть весь ужас кровосмешения, Иуда-африканец, изображенный в профиль на оконном витраже в церкви в Вальборхе близ Хагенау (1451 г.) и в композиции Мартина Шонгауэра в церкви доминиканцев в Кольмаре (1480-1490 гг.), обладает нарочито грубыми чертами лица и темной кожей.
На фреске в церкви доминиканцев в Кольмаре страсть Иуды с толстыми губами и курчавыми, либо коротко подстриженными, волосами контрастирует со смирением бледного, погруженного в печальную задумчивость, обреченного Иисуса, отводящего глаза от нечестивого предателя. Как отмечают многочисленные исследователи, через «обеление» образа Иисуса белый цвет соотносится с добродетелью и красотой, оттеняемые в данной композиции связью предателя с людьми, наделенными типично африканскими чертами.[216] Иуда-африканец придает смысл словам Отелло, сравнивающим себя с «иудеем», что выбросил жемчужину, особенно если вспомнить, что шекспировский мавр в конечном итоге убивает свою белокожую, невинную жену, целуя ее.[217] И все же Отелло превращается в фигуру героическую, в чем отказано Иуде, предумышленная измена которого больше напоминает вероломство Яго. Ведь и предательство Яго также сопряжено с поцелуем — схожим целованием лица того же пола, которое он измышляет, чтобы подогреть подозрительность ревнивого Отелло к своей жене.[218] Если в церкви в Вальборхе Иуда выглядит феминизированным паразитом, присосавшимся к Иисусу, то в кольмарской церкви он источает агрессивную мужественность. В воссозданной им сцене в бесплодном саду Мартин Шонгауэр изображает мерзких гонителей в гиперболизированной мелодраматической манере, а подавленного, безмолвного Иисуса в белом одеянии представляет пассивно сопротивляющимся и благочестиво женственным.[219]