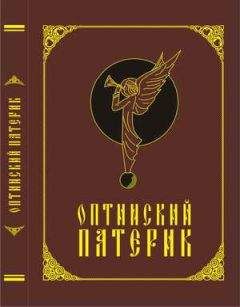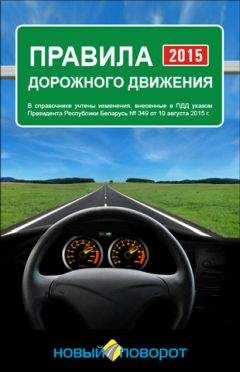Григорий Богослов - Святитель Григорий Богослов. Книга 2. Стихотворения. Письма. Завещание
Частный обзор и разбор элегий святого Григория Богослова
Рассматривая элегии в частности, разделим их сначала на два класса: на стихотворения более обширные, граничащие с дидактическими поэмами, число их незначительно; и на стихотворения краткие, в которых выражаются только аффекты и движения души. Таких стихотворений гораздо больше.
К первому классу относим из наиболее выдающихся, следующие четыре элегии: «Περίτης φύσεως ανθρωπινής» [№ 14. «О человеческой природе»]; «Περίτης του εκτός ανθρώπου εύτελείας» [№ 15. «О малоцен– ности внешнего мира»]; «Περίτης του βίου ματαιότητος και απιστίας και κοινού πάντων τέλους» [№ 32. «О суетности и неверности жизни и об общем всем конце»] и «Περίτων του βίου οδών» [№ 16. «О путях жизни»]. К ним же следует причислить стихотворение под заглавием: «Σχετλιαστικον υπέρ τών αυτου πάθων» [№ 19. «Жалобы на свои страдания»] и стихотворение«Θρήνος περί τών τής αυτου ψυχής πάθων» [№ 45. «Плач о страданиях своей души»].
Относительно этих стихотворений здесь уместно заметить, что не всем им, в собственном смысле, прилично название элегий, потому что не все они могут оправдать его пред судом литературно-эстетической критики. Но мы прилагаем к ним это название как к стихотворениям, которые по общеродовым литературным признакам своим относятся более к отделу элегий, чем к какому-либо другому разряду стихотворений. Главными предметами содержания их служат душевные движения и многоразличные состояния и перемены внутренней жизни, какие испытывал поэт под влиянием разных обстоятельств своей жизни и в разные моменты ее. И это содержание их дает, кажется, справедливое основание отделить их от стихотворений исторических, в которых поэт рассказывает о ходе и обстоятельствах внешней жизни своей. Затем, внимательнее всматриваясь во внутреннее содержание стихотворений этой первой обособленной группы и сравнивая их в этом частнейшем отношении между собой, находишь между ними также весьма значительные различия. В большей части из них поэт имеет в виду только себя самого и выражает злополучия и страдания лишь собственной души, как в стихотворениях № 19 и № 45; в других, как в стихотворении № 15, он не ограничивается изложением только своих душевных расположений, а раздвигает гораздо шире сферу внутренней жизни, захватывая в нее и те аффекты, которые общи всем людям; на себя же лично поэт смотрит здесь только как на вид или отдельный пример, так сказать, общечеловека, однако ж – такой пример, который по природным свойствам своей поэтической души сильнее чувствует, глубже понимает и яснее выражает все то, что случается с смертным. Таким образом, если в одной категории стихотворений поэт, выставляя себя героем элегических поэм, имел перед читателем право на это как человек, претерпевший большую часть бедствий и скорбей, омрачающих жизнь человеческую, то в другой он является перед нами истинным поэтом по силе и глубине их восприятия и тонкости их воспроизведения. Там, так сказать, в индивидуальноэлегических стихотворениях, поэт взывает ко Господу:
«Для чего ты, Царь мой Христос, поражал меня свыше столь многими бедствиями с того самого времени, как вышел я из материнского чрева на матерь-землю? Если ты не связал меня в мрачной матерней утробе, то для чего я принял столько горестей на море и на суше, от врагов, от друзей, от злых начальников, от чужих и от соотечественников, и явно, и тайно осыпавших меня и словами противоречия, и каменными тучами? Кто опишет все это подробно? Я знаменит, но не своим могуществом, не своим талантом, а своими несчастиями. Поэты в стихах своих, гуслисты в своих трогательных мелодиях, путешественники в своих песнях, изливая скорбные мотивы, вспомнят Григория, которого вскормил небольшой городок – Диокессария Каппадокийская…
Иным неожиданно посылаешь Ты несметное богатство, другим – добрых детей; иной прекрасен, иной силен, иной красноречив. А моя слава в скорбях. Я – новый Иов; недостает только подобной причины моих страданий» [738].
Здесь, в общеэлегических стихотворениях, взвешивая бедствия и скорби человеческие с радостями и утехами, святой Григорий наглядно и живо показывает несоизмеримый перевес первых над последними и даже находит преимущество в этом отношении животных перед человеком. «Война, труд земледелия, разбойники, приобретение имущества, описи имений, сборщики податей, ходатаи по делам, записи, судьи, неправдивый начальник – все это еще детские игрушки в многотрудной жизни» [739]. Обращаясь к истории, к знаменитым представителям исторической известности, к героям всемирной славы, к исключительным даже избранникам и любимцам судьбы, поэт наводит мрачные тени и на эти по видимому блистательные примеры счастья.
«Не избежали злой участи и Киры, и Крезы, а равно и наши, как будто вчерашние только, цари. И тебя, почитавшийся сыном змия, неудержимая сила – Александр, погубило вино, когда обошел ты целую землю! Какое преимущество между согнившими? Тот же прах, те же кости – и герой Атрид, и бродяга Ир, царь Константин и мой служитель; и кто злострадал, и кто благоденствовал, у всех нет ничего, кроме гроба» [740]. «Сколько путей стелется на житейской долине! – читаем в другой элегии поэта. – И сколько бедствий облежат их! Нет здесь радости без примеси горя! О, если бы только горести не пересиливали радостей! Что такое богатство? – Беглец! Власть? – Сон. Подчиненность? – Мученье. Бедность? – Оковы. Красота? – Мгновенный блеск молнии. Юность? – Летний зной. Старость? – Печальный запад жизни. Известность? – Быстролетная пташка. Слава? – Ветер. Благородство? – Застарелая кровь.
Сила? – Преимущество дикого кабана. Роскошь? – Пружина беспорядков. Брак? – Рабство. Дети? – Тяжелая забота. Бездетство? – Болезнь. Судилища? – Арена пороков. Уединение? – Бездеятельность. Искусства? – Удел народа, прилепленного к земле. Земледелие? – Тяжелые труды. Мореплавание? – Дорога к могиле. Родная сторона? – Темница. Чужбина? – Позор. Все, все здесь скорбь для смертных! …На крыльях ума я протек все минувшее и настоящее, и увидел, что на земле нет ничего непреходящего, узнал, что нет ничего бессильнее человека. Но, смертные: хотите ли вы узнать блага твердые и неизменные? Переноситесь за пределы мира под знамением креста; проливайте слезы, испускайте вздохи; в созерцании Божественных предметов возноситесь умом к славе Небесной Троицы, которая озаряет своим светом только чистые души; отрешайтесь от бренной плоти и храните в ненарушимой чистоте образ Божий; отрекитесь от этой жизни; с радостью взирайте из этого мира в мир небесный и переносите все равнодушно» [741].
Новое различие между элегиями рассматриваемой группы представляет взгляд на самый род и характер бедствий и скорбей, обуревающих жизнь человеческую и составляющих предмет содержания элегий. Например, в стихотворении «Περί της ανθρωπίνης» [ «О человеческой природе»] поэт выражает преимущественно скорбь души, которую мы выше назвали скорбью метафизической. Темой ее служат вопросы: «Кто я был?», «Кто я теперь?», «И чем буду?» В стихотворении «Περί της του έκτος ανθρώπου εύτελείας» [ «О малоценности внешнего мира»], как видно уже из самого заглавия, поэт обращает наше внимание, собственно, на внешние условия человеческого существования и показывает, что во многих отношениях мы ниже и несчастнее животных, непричастных разуму. Наконец, в стихотворении № 32 [ «О суетности и неверности жизни и об общем всем конце»] образно показана грустная мысль известного изречения Соломона: все здесь, в подлунном мире, суета сует и всяческая суета (см.: Еккл. 1:2). И эта истина, неразрывно связанная с мыслью о безусловном господстве здесь смерти над всем и всеми, служит источником скорбно-элегического настроения поэта в этом стихотворении. Неодинаковые, наконец, выводы получаются из сравнения рассматриваемых элегий со стороны собственно литературной – со стороны языка и слога. В одних стихотворениях поэт изображает несчастия и скорби человеческие с некоторой эпической подробностью, обрисовывает их пластически, живыми и яркими красками. Слог его течет плавно, ровно и последовательно. Как на пример такого стиля мы могли бы указать на стихотворение № 15.
Противополагая в нем внешнюю жизнь человека жизни животных и отдавая преимущество последней пред первой, поэт говорит:
«Телец, едва оставил недра рождающей, уже и скачет и крепко сжимает сладкие сосцы, а на третьем году – он уже могучая подъяремная сила. Пестровидный олень, едва из матерней утробы, тотчас твердо становится на ноги подле своей матери, бежит от кровожадных псов и от быстрого коня, скрывается в чащах густого леса. Медведи, порода губительных вепрей, львы, равный по скорости ветру тигр и рыси, лишь в первый раз завидят железо, тотчас у них ощетинилась шерсть, и с яростью бросаются они на сильных звероловов. Недавно еще покрытый перьями птенец, едва оперился, высоко над гнездом кружится по просторному воздуху. Золотая пчела оставила только пещеру – и вот строит себе противоположную обитель и дом наполняет сладким плодом; а все это – труд одной весны. У всех у них готовая пища, всем пир дает земля. Не рассекают они ярого моря, не пашут земли, не имеют хранилищ. И быстролетную птицу питают крылья, а зверей – дебри. Если и трудятся, то у них небольшая однодневная работа. А огромный лев, как слыхал я, растерзав зверя, им умерщвленного, гнушается остатками своего пира. Притом сказывают, что он, попеременно, в один день вкушает пищу, а в другой одним питьем прохлаждает жадную гортань, чтобы приучить к воздержности чрево. Так жизнь их не обременена трудами. Под камнем или ветвями всегда готовый у них дом. Они здоровы, сильны, красивы. Когда же смирит болезнь, беспечально испускают последнее дыхание, не сопровождают друг друга плачевными песнями и друзья не рвут на себе волос. Скажу еще больше: они бестрепетно теряют жизнь; и зверь, умирая, не боится никакого зла.