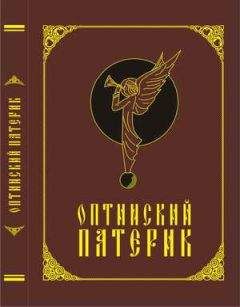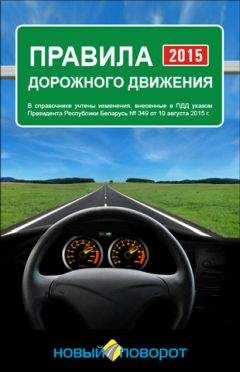Григорий Богослов - Святитель Григорий Богослов. Книга 2. Стихотворения. Письма. Завещание
Об этом с несомненностью можно заключать не только выходя из литературного анализа подлежащего разряда стихотворений, но и просто на основании невольного и непосредственного признания в этом самого автора их. В стихотворениях своих, как и в своих прозаических сочинениях, святой Григорий Богослов неоднократно и неприкровенно сознается, что наклонность его изобличать пороки и предрассудки человеческие путем сатиры, к собственному личному прискорбию его, постоянно брала перевес над всей силой его же собственного, сознательного и намеренного противодействия ее развитию и ее проявлениям в нем. Сюда относятся именно те любопытные места в его сочинениях, в которых он с непритворным чувством своего душевного негодования вооружается против естественного врага своего – «многозвучного» [573] языка, с которым ему не раз доводилось считаться. «Язык, – как это вынес поэт из своего личного опыта, – всего пагубнее для людей». «Это – самое острое, самое решительное оружие»; «Он мал (βαίη), но ничто не имеет такого могущества» [574]. По отношению к себе собственно поэт в одной из своих автобиографических эпитафий прямо говорит, что «Слово даровало ему обоюдоострое (αμφήκη) слово» [575]. Этот «обоюдоострый» дар, по собственному признанию поэта, «всегда подвергал его множеству неприятностей» [576]. И замечательно, что он редко называет свой язык без оскорбительного эпитета. Во избежание именно неприятностей из-за «неукротимого» [577] языка своего с его «дерзким»[578] словом, святой отец подчас прибегал, как известно, к весьма решительным дисциплинарным мерам в отношении к нему.
«Заметив, что необузданность языка моего выходит из границ и меры, – говорит поэт в своем элегическом стихотворении «Είς την… σιωπήν» [ «На безмолвие во время поста»], – я придумал против него отличное средство – подвергнуть слово полному заключению в высокоумном сердце, чтоб язык мой научился наблюдать, что ему можно говорить и чего нельзя» [579]. В стихотворении «О жизни своей» поэт в одном месте совсем в тон с содержанием предыдущих стихов и потому несколько неожиданно для читателя обращается к нему со следующим воззванием, ясно отражающим в звуках своих взволнованное состояние поэта: «Вот вам мой говорливый (λάλον), не умеющий соображаться со временем (άκαιρον) язык! Отдаю его; кто хочет, отсеки его без милосердия (ανηλεώς). И что ж? Разве он не отсечен уже? Если угодно, то действительно так. По крайней мере, давно он молчит, и долее еще будет молчать, может быть, в наказание за неблаговременность и в научение, что не всем он приятен» Само собою разумеется, что подобная мера, то есть «ολη σιγή» [ «полное молчание»], хотя и признается поэтом отличным средством («άριστον φάρμακον»), на самом деле была и не могла не быть только средством паллиативным. Цель достигалась ею ровно настолько, насколько поэт обладал терпением и решимостью воздерживаться от всяких поводов выступать против тех или других современных ему недостатков с сильным и смелым обличительным словом сатиры. Но так как подвергать себя искусу«ολης σιγής» подолгу и почасту уже по самому положению епископа в центре высшей духовнообщественной деятельности было делом физически невозможным, то и причин негодовать на свой язык у святого отца было гораздо больше, чем он сам бы того желал. Ясно, что дело тут было, собственно, не в языке, как языке, если меткое «обоюдоострое» слово поэта подвергало его «множеству неприятностей». Причина этого лежала гораздо глубже, именно в сильном сатирическом даровании поэта, которое яркими лучами остроумия, в большей или меньшей мере, блестит почти во всех произведениях его, не только стихотворных, но и прозаических. И все эти разнообразные эпитеты – «неукротимый», «дерзкий», «многозвучный», «необузданный», какими поэт называет язык свой, нам кажется, следует понимать в смысле выражений, в каких мягкий, любвеобильный христианский епископ, больше всего страдавший, по собственным словам его, слабостью в отношении к дружбе и друзьям, с прискорбием изобличает в себе выдающийся талант сатирического писателя. Между прозаическими сочинениями святого отца мы не найдем, конечно, цельного образца сатиры в ее чистом типическом виде. Но по частям, эскизно, примеров сатирического направления и доказательств врожденной способности автора к этому роду литературной деятельности представляют немало и проповеди, и письма его. Из проповедей обличительного направления нужно отметить в особенности оба Слова на Юлиана и Слова против еретиков – евномиан и ариан. Кроме того, сатирическим характером, в большей или меньшей степени, отличаются Слова «О любви к бедным», «О мире», «Слово в похвалу философа Ирона, возвратившегося из изгнания», «Слово о соблюдении доброго порядка в собеседовании и о том, что не всякий человек и не во всякое время может рассуждать о Боге», «Слово (42-е) прощальное, произнесенное во время прибытия в Константинополь ста пятидесяти епископов» и др. На выдержку возьмем хоть следующее место из Слова против евномиан (первого или предварительного Слова «О богословии»); в нем, как известно, автор вооружается против современного ему эпидемического недуга – говорливости, страсти к богословствованию, которую он называет «болезнью языка» («γλωσσαλγία»). «Философствовать о Боге можно, только не всякому; это приобретается не дешево. Да и не всегда можно философствовать и не перед всяким, и не всего касаясь, но должно знать – когда, перед кем и сколько. А у нас наряду с прочим с удовольствием толкуют и о богословии после конских ристаний, театральных представлений и песней, по удовлетворении чреву и тому, что ниже чрева(και τα υπό γαστέρα), потому что для последнего сорта людей к числу удовольствий относится и то, чтобы поспорить о таких предметах и отличиться тонкостью возражений. Я не о том говорю, что не всегда должно памятовать о Боге. Памятовать о Боге необходимее, нежели дышать. И я первый из одобряющих слово, которое повелевает поучаться день и ночь (Пс. 1:2). Но богословствовать непрестанно, богословствовать безвременно и неумеренно – вот что я осуждаю. Мед, несмотря на то, что он мед, если принять в излишестве и до пресыщения, производит рвоту. Даже прекрасное не прекрасно, если оно не вовремя и не у места, как, например, мужской наряд на женщине и женский на мужчине, геометрия во время плача и слезы на пиру.
Положим, что ты высок, выше самых высоких, а если угодно – выше и облаков; положим, что ты – зритель незримого, слышатель неизреченного, восхищен, как Илия, удостоен богоявления, как Моисей, небесен, как Павел. Зачем же и других не больше как в один день делаешь святыми, производишь в богословы и как бы вдыхаешь в них ученость и составляешь многие сонмища не учившихся книжников? Для чего опутываешь паутинными тканями тех, которые наиболее слабосильны, как будто это дело мудрое и великое? Для чего против веры возбуждаешь шершней? Для чего распложаешь против нас состязателей, как древняя мифология – гигантов? Для чего, сколько только есть между мужами легкомысленных и недостойных имени мужа, собрав всех, как сор(ωσπερ τινά συρφετόν), в одну яму и своим ласкательством сделав их еще женоподобнее, построил ты у себя новую мастерскую и не без ловкости эксплуатируешь глупость их?.. Если у тебя чешется язык, если ты не можешь остановить болезней рождения и не разродиться словом, то для тебя есть много других благодарных предметов. На них и обрати с пользою недуг свой. Рази Пифагорово молчание, Орфеевы бобы и эту пресловутую поговорку новых времен: сам сказал! Рази Платоновы идеи переселения и круговращения наших душ. Рази эпикуров атеизм, его атомы и нефилософское удовольствие; рази Аристотелев немногообъемлющий промысл, смертные суждения о душе и естественный человеческий взгляд на сверхъестественные учения; рази надменность стоиков, прожорство и шутовство циников» etc.[580]
Или раскроем превосходное «Прощальное слово», произнесенное в присутствии собравшихся в Константинополе ста пятидесяти епископов, проникнутое тонким художественно-сатирическим юмором лучших речей Демосфена.
«Как мне вынести эту священную войну? – между прочим говорит здесь оратор. – Ибо пусть эта война называется и священною, хотя она – война варварская. Как соединю и приведу к единству этих один против другого восседающих и пастырствующих, а с ними и народ, расторгнутый и приведенный в противоборство. Несносны мне конеристатели, зрелища и те издержки и заботы, которым предаетесь с равным неистовством. И мы то впрягаем, то перепрягаем коней, предаемся восторгам, едва не бьем воздуха, как они, бросаем пыл к небу, как исступленные, споря за других, удовлетворяем собственной страсти спорить, бываем худыми оценщиками соревнования, несправедливыми судьями дел. Ныне у нас один престол и одна вера, если так внушают нам наши вожди: завтра подует противный ветер, и престолы и вера будут у нас разные. Вместе с враждою и приязнью меняются имена, а что всего хуже, не стыдимся говорить противное при тех же слушателях и сами не стоим в одном, потому что любовь к спорам делает нас то такими, то иными и в нас бывают такие же перемены, отливы и приливы, как в Еврипе. Когда дети играют и служат игрушкой для других на площади, стыдно и несвойственно было бы нам, оставив собственные дела, вмешаться в их игры, потому что детские забавы неприличны старости. Так, когда другие увлекают и увлекаются, я, который знаю иное лучше многих, не соглашусь стать лучше одним из них, нежели быть тем, что я теперь, то есть свободным, хотя и не знатным. Ибо, кроме прочего, есть во мне и то, что не во многом соглашаюсь со многими и не люблю идти одним с ними путем. Может быть, это дерзко и невежественно, однако ж я подвержен этому. На меня неприятно действует приятное для других, я увеселяюсь тем, что для иных огорчительно. Поэтому не удивился бы я, если бы меня, как человека беспокойного, связали и многие признали сумасбродным. Может быть, и за то будут порицать меня (как и порицали уже), что нет у меня ни богатого стола, ни соответственной сану одежды, ни торжественных выходов, ни величавости в обхождении. Не знал я, что мне должно входить в состязания с консулами, правителями областей, знатнейшими из военачальников, которые не знают, куда расточить свое богатство, – что и мне, роскошествуя из достояния бедных, надобно обременять свое чрево, необходимое употреблять на излишества, изрыгать на алтари. Не знал, что и мне надобно ездить на отличных конях, блистательно выситься на колеснице, что и мне должны быть встречи, приемы с подобострастием, что все должны давать мне дорогу и расступаться предо мною, как перед диким зверем, как скоро даже издали увидят идущего.