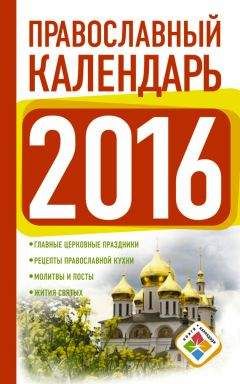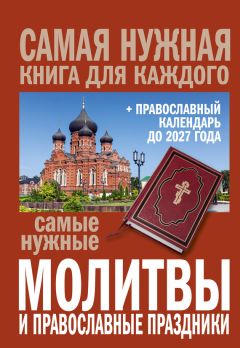Сергей Хоружий - После перерыва. Пути русской философии
***
Для Лосева всеединство — тема, сопровождавшая его всю жизнь. Как в теме музыкальной, тут была сложность, было сплетение противоположных мотивов. Он не стал строить собственной философии как метафизики всеединства, еще одной в только что нами рассмотренном ряду. Ограниченность этого русла, иссякание его плодоносности достаточно рано ощутились ему. Но в то же время, отказ следовать в этом русле не был разочарованием во всеединстве и его отбрасыванием. Ибо для Лосева оно с самого начала было чем-то иным и большим, нежели чисто теоретическим предметом, идеей, философемой. Будучи не просто «философом», но глубоко философскою натурой, будучи историком философии, историком мысли — если угодно, художником мысли — он явственно обладал неким художественным чувством, художественным и эмоциональным переживанием всеединства. Оно было для него символом, знаменованием непостижимого, апорийного бытийного идеала, а мысль о нем, тяготение и устремление к нему, эрос и пафос всеединства, были неким особым философским чувством, жизненным нервом философствования. Таким сверхфилософским предметом, предметом философского эроса оно было для Шеллинга и для Владимира Соловьева. И хотя Лосев, в отличие от них, не стал философом всеединства — время для этого ушло — он был, подобно им, его любовником, его рыцарем.
Вот первое, что он написал: «Эрос у Платона». Тема вполне академична, да начинающему автору и пристало держаться академичности, избегать выспренних воспарений. Академичность здесь есть, и даже двоякая, отражающая бытие Лосева как «философа и филолога-классика одновременно», коим он был, по его словам, уже с окончания гимназии. С классической частью соседствует философская, развивается философская трактовка и учения об Эросе, и всего творческого пути Платона. Разумеется, своей оригинальной философии здесь еще не могло быть у автора; но здесь уже есть вполне определенная философская традиция. Сам Лосев сразу указывает, что его толкование Платона обязано многим Соловьеву с его очерком «Жизненная драма Платона» (1898). Но сегодня мы без труда можем различить в лосевском этюде более широкое преемство. Зависимость от Соловьева и его очерка тут велика, но в целом автор подходит к Платону с позиций всей той позднейшей московской школы религиозного материализма, в лоне которой он вырос. В основе его подхода — коренные идеи этой школы о духовной телесности, о преображении плоти и преображении чувственной любви: о том, что «злую и косную материю надо преобразить, сделавши ее бессмертной»[39], и именно в этой миссии — высший смысл любви.
Здесь-то, в контексте этих идей, впервые возникает у Лосева всеединство, и возникает сразу в ключевой роли: через него дается философская дефиниция любви, предмета, которому посвящен этюд: автор говорит, что Платон прозрел «тайну любви, этого состояния, которое дает... воссоединение с потерянным всеединством»[40]. Эта формула, находимая в начале этюда, в конце его дополняется другими подобными: Эрос — «творческое взаимопроникновение душ ради божественного всеединства... истинный Эрос, единящий сначала две души, а потом все человечество для вселенского всеединства»[41]. Здесь — существо всей концепции Эроса, выдвигаемой в этюде: совершенная любовь — сила, которою созидается всеединство, и всеединство -- высшая цель и высшая ценность бытия. Но концепция эта уже знакома читателю: она была развита Флоренским в его «Столпе», который появился незадолго до лосевского этюда. Итак, в первом же своем сочинении Лосев подхватывает тему всеединства с энтузиазмом. При этом, непосредственным образом, он берет ее у Флоренского, из «Столпа и утверждения Истины» (заметим, что Соловьев не ставит в связь Эрос и всеединство и в своем очерке о Платоне не говорит о всеединстве ни слова).
Но Лосев никак не собирался делаться эпигоном Флоренского. После нескольких лет напряженных размышлений, обширных штудий как древней, так и новейшей философии, он создает свою «диалектическую феноменологию», методологическая база которой — Гегель и Гуссерль, чьи учения в глазах о. Павла приближаются к культу чистого Ничто. На этом этапе его творчества всеединство, безусловно, не занимает центрального места. Диалектическая феноменология — не метафизика всеединства. Если говорить об его отношении к ее устоям, то для Гуссерля всеединство — продукт чистейшего метафизического натурализма, для Гегеля же оно, как мы видели (§ 2), имеет лишь незначительное место в системе диалектических категорий. И все-таки, при всем том, его роль у Лосева остается вполне заметной. Как ниже будет показано[42], диалектическая феноменология есть философский символизм, а концепция символа — один из традиционных и естественных локусов всеединства. В первой же книге Восьмикнижия, самой гуссерлианской «Философии имени», мы находим конструкцию неоднородного всеединства: выражаясь в своем ином, в меоне, и превращаясь, тем самым, в символ, «Смысл... станет представлять собою уже разную степень смысловой освещенности, разную степень выраженности... разную степень осмысленности, от полного смысла в „ином" до полного бессмыслия в «ином» — так что налицо будут «ступени восходящего осмысления меона или нисходящей силы меона»[43]. Как видим, Лосев весьма рано, не поздней 1923 г., пришел к открытию фундаментальной связи между символом и всеединством, и он никогда не перставал утверждать ее. Не только в каждом из томов Восьмикнижия мы без труда обнаружим ее следы, но и в глухую пору, в тексте, воспевающем социально-историческую значимость эмблемы серпа и молота, можно было прочесть: «Символ вещи есть ее структура, но не уединенная или изолированная, а заряженная конечным или бесконечным рядом соответствующих единичных проявлений этой структуры»[44]. Вспомним § 1: перед нами — ортодоксальное неоплатоническое описание всеединства как единства идеи и бесконечного множества ее проявлений.
Отход от всеединства окажется еще менее значителен, если мы снова обратимся к античной тематике. Она не исчезала у Лосева никогда, с начала и до конца его творческой жизни, и в ее составе всегда и неизменно присутствовала тема о всеединстве. Вернее сказать, тут был целый узел тем; едва ли хоть какое-нибудь из многочисленных разветвлений сюжета «Античность и всеединство» полностью избежало лосевского внимания. Некоторые мы уже отмечали выше: Лосев анализировал христианизированное неоплатоническое всеединство псевдо-Ареопагита, купно с Вяч. Ивановым реконструировал мистериальное всеединство орфиков. Конечно, это не все. Неизбежным образом он обнаруживал всеединство, разбирая античные учения о числе. Уже в ранней «Диалектике числа у Плотина» центральный вывод гласит, что плотиновское «число... есть, прежде всего, все во всем»[45]. А в поздней и необъятной «Истории античной эстетики» подобный вывод делается вновь и вновь для множества древних авторов, детализируется, обогащается... Так, в томе седьмом обнаруживается, что в аритмологии Ямвлиха особою связью с всеединством обладает десятерица, число 10.[46] Столь же неизбежно, к всеединству приводит анализ античного космоса. В одной из первых же книг Лосев проделывает детальную реконструкцию античной космологии и выявляет лежащую в ее основе парадигму неоднородного всеединства: «Пространство космоса представляет собою... троякую неоднородность, расположенную в виде концентрических слоев вокруг одного центра... Космос — разная степень напряженности самих пространства и времени... разные степени напряженности бытия... разная степень всеохватности и Бессодержательности»[47], — иначе говоря, разная степень всеединства. Не раз Лосев акцентирует и общую необычайную приверженность античности к всеединству. «Весь Прокл — славословие всеединству» — гласит красноречивое название одного из разделов в «Истории античной эстетики».
Наконец, на закате долгой жизни философа, совершается и возврат к истокам, который он столь долго чувствовал для себя запретным. Лосев пишет книгу о Соловьеве. Здесь, разумеется, он говорит и о всеединстве (впрочем, не входя в особенно пристальный анализ) и, уже не таясь, утверждает то, на чем стоял всегда: «Принцип всеединства... является принципом философской классики вообще»[48]. Но нам в заключение важно отметить и другое. По существу, Лосев—а отчасти уже и Флоренский—дошли в своем творчестве до границ, до исчерпания философских перспектив русской метафизики всеединства. У них обоих — и у Лосева это более явно — уже начинается зарождение, вынашивание некоего нового этапа, новой фундаментальной парадигмы для русской мысли, на смену прежней панентеистской парадигме. Черты этой новой парадигмы, даже основные, почти еще не успели обозначиться, и ясно лишь, что она избирает базироваться уже не на сущностных, а на энергийных категориях, придавая большую важность линии православного энергетизма, связанной, в первую очередь, с исихастской традицией.