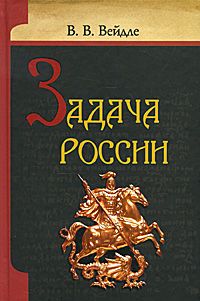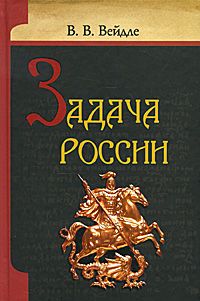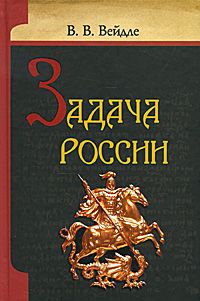В. Вейдле - Эмбриология поэзии
Итак, изначально мимесис — это лишь то репрезентативное [представляющее] выражение, которое состоит с представляемым или выражаемым в совершенно особой связи. Платон называет эту связь methexis, что, однако, более не передает смысл, существовавший в прежние времена, во всей полноте — из‑за «пифагорейского» оттенка этого слова. Корнфорд очень точно заметил по поводу дионисийского культа о единении верующих в фиасе со своим богом и его «подобием» («amounts to temporary identification» [равносильном временной идентификации]). Однако о пифагорейцах он сообщает, что для них всякий род экстатического ритуала замещен theoria, созерцанием космоса, упорядоченного мироздания, при этом созерцающий в mimeisthui этого порядка сам становится kosmios, «attuned to the celestial harmony» [настроенным на небесную гармонию]. Эта ослабленная форма мимесиса и называется у Платона methexis и проникает в самые основы его мысли — в учение об идеях, где он все еще не отказывается от применения старого слова, хотя определяет отношения между отдельными предметами и идеями как причастность. Однако метексис состоит именно в том, что отдельные предметы становятся mimemata идей. И повсюду у Платона встречается мимесис, понятый как метексис[276], что связано с характерными колебаниями его ценности, в зависимости от того, рассматривает ли он позитивную сторону причастности к высшему бытию или негативную, отраженную и затененную, что, на взгляд Платона, равно свойственно мимесису–метексису[277].
При всех колебаниях, при всех сомнениях в ценности мимесиса, чему Платон предоставляет столь красноречивое свидетельство в «Государстве», «Софисте» и в «Законах», у него никогда не исчезает мысль о постижении mimethesomenon посредством миметического акта, о единении субъекта и объекта мимесиса. Для Платона мимесис достаточно значителен, чтобы таить в себе опасность. Так может случиться, если мимесис обратится на что‑то недостойное (тривиальное или низменное), поэтому выбор объекта отнюдь не безразличен. Существует что‑то достойное подражания, представления и воспроизведения и многое, что его не достойно, есть случаи, когда это подобает совершить, и иные, когда это следует себе запретить. Платон с презрением упоминает случайные mimesthai самых разных объектов и всерьез предостерегает от опасностей, к которым может привести такое злоупотребление[278]. Этот заложенный в метексисе очаг заражения возникает и тогда, когда мимесис съеживается до «простого» представления, воспроизведения или подражания, как это неоднократно отмечено у Платона в рассуждениях против мимесиса, умаляющих уже само понятие, даже в такой сфере, где о мимесисе вообще не может идти речь иначе, как о подражании.
Как это показал Вернер Егер[279], мышление Платона — это в значительной степени рассуждения о воспитании. Он заведомо убежден, что следование некоему образцу — поступок, не проходящий бесследно, и что подобное подражание вызывает в душе человека — в особенности молодого, далеко идущие изменения и даже подлинные превращения (например, опустошение). Сама по себе эта позиция вполне здрава и основана на опыте, но и в ней ощутим след прежнего, тотального представления о мимесисе, в соответствии с которым любой миметический акт, даже если он кажется нам вполне безобидным, тяготеет к mimethesomenon, к участию в нем, которое может быть в этом случае определено как продолжение жизни учителя в ученике, образца — в его воспроизведении.
Особенно жизнеспособной кажется эта укорененная в мимесисе форма отождествления в сфере танца и сценической игры, в которой мимесис возник и где в нем и в более поздние времена сохранялось простонародное понимание. Уже изначальный сакральный мимесис был танцем и игрой без разделения на первых порах танца и зрелища, исполняющего танцора и исполняемого танца. Когда же это разделение произошло, все еще не было совершенно осознанного различия между мимом и персоной, избранной в качестве mimethesomenon, которую он собой воплощал и побуждал к появлению на свет посредством мимики, танца, пения и всего действа. Когда это различие вторглось в сознание и стало очевидным, понимание его должно было остаться чужеродным и враждебным тому, которое связывали с прежним мимесисом и ожидали от него и, более того, несмотря на все преломления его смысла, именно в нем искали и находили. Ничего кроме имени не унаследовали от своих пращуров мимы, представлявшие в «mimus'e» и сливавшиеся в вихре ритуального танца со своим божеством. Аттическая трагедия не является мистерией несмотря на то, что ее связь с сакральной сферой отчетливо узнаваема в лучших ее образцах. И даже в более поздние времена, когда кто‑то на десакрализованной сцене представляет божественное или земное существо, то в ощущении многих зрителей он срастается с этим существом в одно целое и подвергается опасности — как это понимают теперь — стать тем, чем он стремиться стать. Уже Лукиан из Самосаты рассказывает нам историю о танцоре, который представлял неистового Аякса и сам впал при этом в неистовство «в чрезмерном мимесисе»[280]. Большинство зрителей смеялись, сообщает он, но иные были напуганы. Итак, его современники все еще (или вновь?) верили, что подобное представление–подражание (лишь это значит сейчас слово, используемое здесь) может привести к слиянию его субъекта с объектом, даже если идентичность в данном случае сводится лишь к тому, что представляющий разделил безумие представляемого. В этом уловим не более чем слабый отблеск прежней веры в мимесис- метексис; однако то, что он вышел на поверхность в связи с танцевальным действом, отнюдь не случайно: там, где мимесис живет от века, легче всего узнаваем его первообраз.
Этот первообраз принадлежит священнодействию. Религиозный смысл, культовая значимость, мера святости действа могут быть самыми разнообразными, но мимесис всегда остается действом, и как раз это имеет для всей греческой мысли о мимесисе величайшее значение. Ибо он задуман как действо даже если его святость забыта и он перемещен в другую сферу, ту, что мы называем художественной. Наиболее интенсивен он был в религиозном проявлении, когда производил епифанию божества, — ожидаемую цель идентификации, уподобления in actu, действия. Ситуация, складывающаяся при подобном мимесисе, в сущности, та же, и когда один представляет другого, давая ему явиться в себе самом. Различна лишь мера подлинности, которую стремятся приписать этому другому. Бесчисленные епифании такого рода происходят в театре и кино, несколько более прикровенно — в романе, в новелле. Они всегда порождены рассказанным или показанным действием, они длятся всегда ровно столько, сколько длится оно; и когда действие приходит к концу, — мы пробуждаемся, поскольку уже научены отличать мир этих событий от просто мира. В собственно религиозной сфере тоже есть действия, не рассчитанные на подобные превращения, которые, тем не менее, как это хорошо знали греки, относятся к мимесису. В первой (древнейшей) части гомеровского гимна Аполлону, где описывается делос- ский праздник божества и где нам впервые встречается это греческое слово (в глагольной форме), делосские девы, очевидно, понимают его: «Слова и танец всех людей mimeisthai. Каждый хочет сказать, что говорит он сам. Так устроено их прекрасное пение»[281]. Итак, мимесис не только происходит здесь в рамках и с помощью mousike, как в экстатических культах, основой которых является миметическое преображение: здесь он совершается самой mousike, религиозный смысл которой сливается с музыкальным, скажем — художественным; здесь он является этой mousike: песнями и танцами делосских дев в честь Аполлона от имени всей общины, названной здесь просто «все люди». Если бы мы могли возвратить слову «музыка» его греческий смысл, то можно было бы говорить о рождении музыки из духа мимесиса так же как о рождении мимесиса из духа музыки.
Но как же перевести это mimeisthai из гимна Аполлону на современные языки? Очень трудно; вероятно, лучше всего с помощью английского глагола to enact (to mimic уже сузило бы смысл понятия); слово «подражать» ничего не даст нам в данном случае, поскольку, как и в мимесисе, здесь представление является выражением, а выражение — представлением. Enacted, разыгранным оказывается танцевальное или вокальное действие, произведение поэта, Гомера, «слепого певца с Хиоса»; однако слышимы и видимы становятся при этом слова и танец «всех людей», даже тех, которые не поют и не танцуют; поскольку так устроено пение, что «каждый хочет сказать, что говорит он сам». Итак, здесь, в VII веке, нам предстает тот же род мимесиса, что и в хоровой лирике (старых) дифирамбов, присущих хору трагедии. Его природа иная, чем при исполнении отдельной роли — епифании Эдипа, Электры; но все‑таки не настолько, чтобы было невозможно говорить об идентификации. Она здесь менее ярко очерчена и при этом двойственна. Танец и пение делосских дев называются мимесисом и являются им, во- первых, поскольку спокойствие и молчание всех реально — или только умозрительно — присутствующих мыслится здесь как танцующее и поющее; во- вторых, поскольку в процессе пения и танца возникает нечто, завораживающее самим своим появлением — не бог, не человек, но образ: мусическое произведение, душа которого становится этим явлением во времени «явленным изнутри», а плоть приобретает в итоге этот образ. Первая степень единения исчезает, когда община перестает чувствовать и обеспечивать свою связь с художественным творчеством. Вторая присуща ему всегда и во всем, поскольку художественное произведение как языковое, — это смысловое образование; точнее, — смысловой образ, обе стороны которого находятся друг с другом в особых, гибких отношениях (А обозначает В — А вытесняет В — А и В похожи — А есть В); отношениях, для которых действительно нет лучшего имени, чем греческое «мимесис».