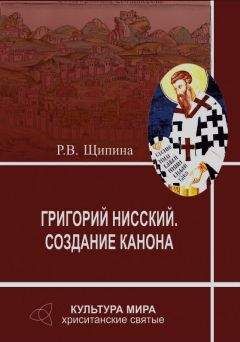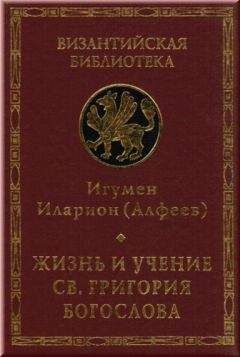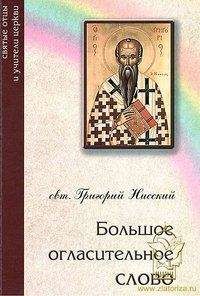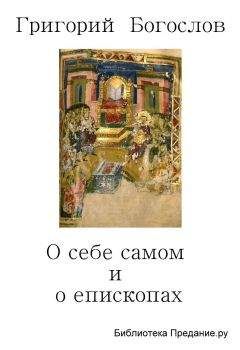Виктор Несмелов - Догматическая система святого Григория Нисского
На том основании, что Спаситель испытывал человеческие страдания, Евномий построил доказательство Его ограниченности, считая Его по самой божественной природе немощным и потому способным к изменениям и страданиям [849]. Указывая ложь этого основания, св. Григорий рассуждает: „дело человеколюбия врагами понято, как клевета и осуждение природы Сына Божия, как будто Он не вследствие (свободного) промышления, а в силу (тварности своей) природы дошел до жизни во плоти и крестного страдания“ [850]; т. е., если бы Он был истинным Богом, равным Богу Отцу, то Он, по арианским рассуждениям, и не пришел бы спасти человека, потому что не мог бы придти, — а если пришел, то очевидно потому, что Его сотворенная природа позволила Ему принять воплощение [851]. Следовательно, из божественного дела спасения людей ариане действительно вывели клевету на Спасителя. Но эта клевета была только первым шагом в отрицании христианства. Если Спаситель, явившись на землю в человеческом образе, не сделал ничего чудесного, если Он принял образ, не чуждый Ему по природе, то Он и не сделал людям никакого благодеяния, потому что страдания Его — страдания естественные, и цены никакой не имеют. Если бы Он был истинный Бог и усвоил Себе страдания человечества, то это имело бы великую силу, потому что Бог принес бы Собою в этом случае величайшую жертву за людские грехи; а со стороны сотворенного существа, хотя бы и поставленного на степени Божества, такой жертвы быть не может, потому что оно ничего не могло испытать такого, что было бы за пределами Его природы. Поэтому, арианский Спаситель не принес никакой жертвы и не сделал ничего для людей, так что Его не за что им и почитать [852]. Если же ариане возмущаются таким выводом, надеясь получить себе спасение и от своего сотворенного рабствующего Бога, то они впадают только в излишние противоречия, ожидая спасения и отвергая Спасителя. Доктрина их — антихристианская [853]. Для них возможно только одно из двух: или признать в Спасителе полноту спасающей силы Божией, или отвергнуть спасение. Если ариане не признают Спасителя совершенным, несозданным Богом, то вместе с тем они отвергают дело спасения, — следовательно, разрушают все христианство. По чистому христианскому учению, Спаситель исповедуется и должен исповедываться истинным Богом, единосущным и равным Богу Отцу. Совершенный Бог, Он соделался совершенным человеком, свободно уничижив Себя ради спасения людей, чтобы явить в мире преизбыток Своего человеколюбия, — но уничижил Себя без всякого изменения своей божественной сущности. Господь твари соделался человеком, „всецело оставаясь Богом и всецело делаясь человеком“ [854]. Здесь оканчиваются возражения Евномия и начинаются возражения Аполлинария.
Считая совершенного человека, одаренного умом и свободою, необходимо греховным, Аполлинарий выставил против церковного учения о всецелом человечестве Христа факт Его человеческой безгрешности. Если, рассуждал он, несомненно, что Спаситель — безгрешный человек, то ясно, что Он не имел в Себе причины и источника греха — разумного человеческого духа, который до того сросся со грехом, что не может быть даже и мыслим свободным от него. Со времени первого грехопадения между людьми не было, нет и никогда не будет безгрешного человека, — так что если бы мы узнали про существование такого человека, то имели бы полное право признать его не тожественным со всеми другими людьми, необходимо греховными. Такой человек, который пришел бы только в подобии плоти греха, по слову Апостола, был бы не человек, а якоже человек, потому что он не имел бы существенного признака человеческой природы — греховности, а вместе с нею и разумного духа, потому что дух и грех срослись неразрывно. Поэтому если Христос не имел греха, то Он не имел и греховного человеческого духа; а если не имел человеческого духа, то как же Он мог быть всецелым человеком?
Такова сущность возражения Аполлинария. Едва ли справедливо будет обвинить его в намеренной подтасовке совершенно различных понятий — греховности и нормальности человеческой природы. Дело в том, что Аполлинарий был не софист, а просто подавленный силою греха человек, и потому на подтасовку понятий ради защиты излюбленной им теории решиться не мог. Развитое до крайней степени, болезненное чувство греховности заставило его согласиться на признание греха необходимым, роковым явлением в природе человека; а отсюда он уже совершенно последовательно пришел к мысли считать это необходимое, роковое явление нормальным сначала в смысле абсолютной неизбежности его, а потом и в смысле соответствия его идее человека, когда понятия человека и грешника были признаны безусловно тожественными. Поэтому, бороться с Аполлинарием значит бороться с его болезненным чувством греховности. Противнику его нужно было доказать только, что грех — явление ненормальное, а потому к сущности человеческой природы не принадлежит. Если же Христос принял полную человеческую природу, то принял нормальную, какою она была до первого грехопадения, и потому безгрешную, хотя и во всем тожественную с нашей природой, кроме того лишь одного, что в ней нет происшедшего после болезненного нароста — греха. Св. Григорий Нисский так именно и поступил при разборе возражения Аполлинария. По его мнению, разумный человеческий дух сотворен для отображения одного только добра, — и он исполнял это свое высокое назначение даже в том случае, когда в первый раз произвел грех. Если бы, рассуждает св. Григорий, человек не считал греховного дела за благо для себя, то он и не сделал бы его, и не отобразил бы его в себе [855]. Поэтому, единственно мыслимый случай появления первого человеческого греха можно представить себе лишь так, что человек признал за благо то, что на самом деле не благо; а так как зла еще тогда не было, то человек признал за благо то, что вовсе не существовало [856]. Если же грех есть не всякое вообще движение мысли, а только движение к несуществующему добру, то, стало–быть, нельзя считать мысль греховною саму по себе [857], потому что греховен только ложный, отрицающий добродетель, образ её движения; но такой образ не существует обязательно, а только является при отсутствии другого, противоположного образа движения, — и потому грех сам по себе есть не иное что, как несуществующее добро, или просто не–сущее, отрицание сущего. Из этого определения следует первый необходимый вывод против учения аполлинаристов: человек по своей природе должен быть признан добрым; если же целью его действий часто становится добро несуществующее, то это уже будет уклонением от нормы, подобно тому как болезнь и уродство не от начала прирождены нашей природе, а составляют явление ненормальное. „Мы понимаем зло, — говорит св. Григорий, — не как нечто самостоятельное в нашей природе, а смотрим на него как на отсутствие добра“ [858]. Из этого вывода совершенно правильно можно было сделать и другой противоположный аполлинаризму вывод. Если грех есть отрицание добра, то греховным (причиной греха) должно признать в человеке все, что только отрицает добродетель; но так как в действительности „ни дар слова, ни дар разума, ни способность приобретения познания, ни другое что тому подобное, составляющее собственность человеческой сущности, не противны понятию добродетели“ [859], хотя и все могут отрицать ее и, следовательно, становиться греховными, — то нельзя полагать, что грех есть существенное свойство нашей природы, как полагали это аполлинаристы. Следовательно, Спаситель мог принять полную и совершенную человеческую природу, и все–таки остаться совершенно безгрешным.
Утверждая — вопреки Евномию — совершенную божескую природу в Лице Спасителя и — вопреки Аполлинарию — совершенную человеческую природу Его, св. Григорий был весьма далек от того, чтобы мыслить обе эти природы совершенно раздельными, — так что можно было бы отдельно говорить и о Боге, и о человеке. Напротив, он вполне соглашался с верным требованием своих противников относительно единства Лица Иисуса Христа, и, исповедуя в Нем совершенного человека, категорически утверждал, что Иисус Христос есть единое богочеловеческое Лицо. Против этого положения одинаково ничего не могли возразить ни Евномий, ни Аполлинарий, — потому что оба они признавали его по существу верным; но нисколько не оспаривая его верности, оба они все–таки сделали очень серьезное возражение против соответствия учения о единстве Лица Спасителя основному христологическому положению св. Григория о двух совершенных природах Христа. Могут ли два совершенных быть единым?
В ответ на этот вопрос св. Григорий предложил свое учение о способе соединения в Лице Иисуса Христа двух полных природ — божеской и человеческой. Он вполне сознавал глубокую непостижимость этого таинственного догмата, и в своем „Великом Kaтехизисе“ даже прямо говорил, что в истину воплощения можно веровать, но исследовать ее нельзя. „По причине повествуемых чудес, — говорит он, — мы не отвергаем, что Бог явился в природе человека, но отказываемся исследовать, как (явился), потому что это выше доступного размышлению (μεϊζον η κατα λογοισμων εφοδον)“ [860]. Человеку, со всех сторон окруженному непостижимыми загадками и в себе самом носящему неразрешимые тайны бытия, странно было бы и претендовать на ясное познание божественных тайн. „Если, — говорит св. Григорий, — ты спросишь: как Божество соединяется с человечеством, — то смотри, прежде тебя нужно спросить: какое сродство у души с телом? Если же неизвестен способ соединения души твоей с телом, то, конечно, не следует думать, чтобы и то стало доступно твоему разумению“ [861]. Однако, обстоятельства заставили св. Григория взяться за раскрытие таинственного догмата, — и именно заставили его поставить тот самый вопрос, который, по его же собственному сознанию, не может быть доступным человеческим размышлениям. Само собою разумеется, что требовать в этом случае от человеческих соображений особенной ясности и особенной точности было бы совершенно неразумно; но еще более было бы неразумно требовать этих качеств от соображений св. Григория Нисского. Несмотря на то, что догмат о воплощении имел уже свою трех–вековую историю, св. Григорий почти первый был вынужден поставить неразрешимый вопрос о способе соединения во Христе божества и человечества. Он не имел от предшествующего времени никаких соображений по этому вопросу, — потому что прежние церковные учители — или решали его односложно, или же совсем обходили молчанием; а вследствие этого он не имел и выработанной терминологии в области своих исследований. Ему пришлось самому решать все сильные возражения против непосредственной веры в совершенное божество и совершенное человечество Спасителя, а вместе с тем самому же представить и необходимые термины для выражения человеческих понятий о непостижимом таинстве. В виду этого, вполне естественно, что он крайне затруднился выполнением принятой им на себя задачи, и потому выполнил ее далеко не с таким совершенством, с каким, например, выполнил ее св. Иоанн Дамаскин, живший после христологических ересей и имевший у себя под руками точные догматические определения вселенских соборов по поводу этих ересей.