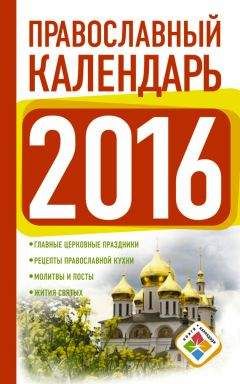Дмитрий Герасимов - Невидимое христианство. Собрание философских сочинений (1998—2005)
Но любовь и может быть всегда только взаимной. И в этом подлинная тайна любви, ускользающая от отвлеченного интеллектуализма, ей совершенно чужда какая-либо автаркия или автономия, «дистанция» – неудивительно, что большинство философов-рационалистов не понимает этого. Любовь есть взаимность самобытия. Односторонней, «неразделенной» – безответной, любви не бывает – это не любовь, а стремление к любви, жажда любви, обусловленная соборной природой личности, а в случае принятия этого стремления или искания любви за самую любовь – и эгоистическое чувство: влечение либо к самоутверждению через самоуничижение, либо к самоуничижению через самоутверждение. Сила любви в реальности глубины, а последней нет в одном. Глубина дается только в ответе, во встречном движении. Любовь и есть встреча, совершенная встреча. Если нет ответа, отзывчивости, то исконное влечение в человеке перерастает в самолюбование, в платонизм. Даже В. С. Соловьев, различая три вида любви – нисходящую (родительскую), восходящую (сыновнюю) и равную (половую) – отдавал предпочтение именно равной, половой любви, в которой достигается полнота жизненной взаимности63, хотя вся его философия построена как раз на отрицании этой любви и утверждении любви безответной.
Если метафизика всеединства отрицала онтологию личности и соответственно вела к деформации учения о нравственности, то выражалось это прежде всего в утрате чувственной конкретности межличностных отношений (обоюдности отношения Я-Ты) и утверждении идеала безответной, или жертвенной, любви. Такая любовь тем сильнее, чем менее она связывает людей между собой. Для В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка и др. жертвенность и состоит в предположении отсутствия какой-либо связи. По В. С. Соловьеву, «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого, и между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение»64. В этом он усматривает нравственный смысл любви. Но что может быть безнравственней собственного самоутверждения за счет другой личности! Любовь жертвенна, но жертва любви нравственно оправдана только в том случае, если есть встречное движение, если любовь взаимна.
Вот почему творение мира Богом нельзя мыслить в категориях любви. Но для метафизики всеединства такое представление не только неизбежно, но и является по существу центральным. С. Н. Булгаков, к примеру, пишет, что «Творение есть жертва Абсолютного своей абсолютностью, никем и ничем не вызванная (ибо нет ничего вне Абсолютного) … Творение мира Богом, самораздвоение Абсолютного, есть жертва Абсолютного, ради относительного, которое становится для него „другим“, творческая жертва любви»65. Это представление, восходящее, по выражению Е. Н. Трубецкого, к «эротической утопии» В. С. Соловьева, а точнее – к учению Шеллинга, почти тождественно представлениям о жертвенной любви, встречающимся в наиболее утонченных формах язычества – в частности, в Бхагавад Гите, в учении о бхакти («преданности»). Понимание любви как «безответной», характерное для метафизики всеединства, проистекает из крайнего интеллектуализма этой метафизики, находящего естественный выход для своих «рациональных схем» в космологии. Но это есть обездуховление нравственности (не случайно В. С. Соловьев и С. Н. Булгаков склонялись к кантовскому автономизму в этике!). Н. А. Бердяев справедливо отмечал, что ориентация на космологию есть по преимуществу эстетическая, этической же может быть только ориентация на личность. Мир, природа, космос есть объект, а не дух, не субъект. Невозможно основать нравственности на космологии. Язычество как раз и состоит в попытке выведения нравственности из констатации причин миросозидания. Поэтому, к примеру, одну из разновидностей рационалистической этики – биоэтику Э. Ласло, О. Леопольда, А. Швейцера и др.66 – тоже можно рассматривать в качестве возвращения к язычеству, паганизации нравственного сознания. Таким образом, метафизика всеединства почти в точности воспроизводит древнейшую космологию любви, характерную для различных форм мирового язычества.
Подлинную онтологию любви мы находим только в христианстве, причем не в Ветхом Завете, но в Новом, как связанную исключительно с Голгофой. Все Евангелия проникнуты не просто духом любви, но любовным духом взаимности. Евангельская любовь совсем не есть автаркийная, самодовлеющая любовь погруженного в себя интеллекта, она совсем не терпит одиночества, но ищет общения, ответности и взаимности. Здесь любовь к Богу возможна только потому, что есть встречное движение – любовь Бога к человеку, и наоборот. И самая эта встречная, взаимная любовь находит свое зримое воплощение в Богочеловеке. Весь Новый Завет нельзя трактовать иначе, как живую встречу Бога и человека, как откровение совершенной взаимной любви, как диалог влюбленных: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, как единородного от Отца (курсив мой. – Д.Г)» (Иоан.1, 14.). Слово (Логос) здесь не есть познавательное усилие одинокого разума (кантовского «трансцендентального субъекта»), не есть слово «осмысляющее», но слово сообщающее, сообщительное, открывающее – слово-откровение. И самая эта жертва Богочеловека, задолго до ее совершения предваряемая трогательными сообщениями Иисуса о предстоящем ему крестном испытании, есть прямое свидетельство искания ответной любви. Иисус многократно предупреждает своих учеников – апостолов – о том, что Он идет туда, куда они не могут прийти (Иоан.8, 21), и что других они всегда имеют с собою, а Его – не всегда (Иоан.12, 8) – и это есть прямое самосвидетельство Его личности, раскрытие личности, без которого не может быть любви как соединения. Иисус говорит о Себе апостолам вовсе не для того, чтобы последующие христиане строили на этом свое богословие, не потому только, что Он любит, но и потому, что его любят: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги!… не только ноги мои, но и руки, и голову» (Иоан.13, 6—9), «Господи! куда Ты идешь?… почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя» (Иоан.13, 36—37), и т. д. Наиболее сильно взаимность евангельской любви представлена в истории благочестивого Симеона, который лишь после непосредственной встречи с младенцем Иисусом (и благословив Бога!) мог произнести слова, знаменующие собой смену целых эпох в развитии религиозных представлений человечества: «ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое» (Лук. 2, 28—30). Любовь может быть только взаимной, любовь и есть откровение взаимного самобытия личностей.
Тема взаимности, или симфоничности человеческого бытия, в русской философии разработана в меньшей степени, нежели тема соборности, хотя последняя, как это становится совершенно ясным теперь, является непосредственным выводом из первой. Симфония в русской философии традиционно связывается с историософским контекстом, с концепцией православной государственности67. Но смысл ее более универсален: взаимность здесь есть именно взаимодополнительность без какого-либо умаления соединяющихся сторон. Мы видим, что личное бытие по самому существу своему симфонично, а потому только и соборно. Теперь уже мы можем сказать, что и господствующая в русской философии идея всеединства на самом деле проистекает из интеллектуальной трансформации (т.е. как результат рационального объяснения) более глубокой в основе своей интуиции – интуиции симфоничности человеческого бытия. «Всеединство» и получается только путем объективирующей деятельности рассудка, сводящего откровение непостижимого к отвлеченному «единству противоположностей».
Симфоничность, или взаимная любовь, конечно же, не есть обязательно половая любовь. Она может проявиться и в «восходящей», и в «нисходящей» любви, и в дружбе. Но только в половой любви она достигает максимальной полноты жизни, потому что пол неустранимо входит в состав личности. В. В. Розанов несколько преувеличивал, говоря, что пол и есть «наша душа», т.е. личность68. Но личности нет без пола, и бесполое существо не может быть личностью. Для В. С. Соловьева с его идеалом «безответной» любви, «плотское условие размножение для человека есть зло; в нем выражается перевес бессмысленного материального процесса над самообладанием духа, это есть дело, противное достоинству человека, гибель человеческой любви и жизни; нравственное отношение к этому факту должно быть решительно отрицательное: мы должны стать на путь его ограничения и упразднения»69. Но дух не есть нечто отдельно действующее в человеке, но есть целое человека, а потому предполагает реализацию и пола в человеке. Безнравственно насиловать человеческую личность, отказывая ей в праве на физическое бытие. Для В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова и Н. А. Бердяева идеальный человек – андрогин, соединяющий в себе оба пола, а потому, к примеру, Н. А. Бердяев, который здесь явно возвращается к дискурсу всеединства, рассматривает половое соединение как стремление воссоздать бисексуальное «я», «цельного человека»70. Но это значило бы сводить бытие личности к некоей конституирующей ее сверхличной реальности – будь то «мы», или «андрогин», и тем самым отрицать самобытие личности. В том-то все и дело, что «целое» человека уже дано в его личности, потому и любовь есть не воссоздание одного «цельного человека», но раскрытие целостности, т.е. личности во всей ее глубине в каждом соединяющемся в любви. Только в половой любви может раскрыться глубина мужественности и глубина женственности, без которых нет самобытия личности. Все личности по своему бытию бесконечно разнятся между собою, и не последнюю роль здесь играют именно половые различия. В. В. Розанов рассматривает каждое рождение как чудо – раскрытие связи нашего мира с миром трансцендентным: «узел пола – в младенце», который «с того света приходит», «от Бога его душа ниспадает»71. Любовь, семья, рождение детей – все это необходимые условия реализации личности в полноте ее бытия. Более того, семья и есть то «место», в котором человек в наибольшей мере может проявить личное творчество, хотя и не единственное, как думал В. В. Розанов72.