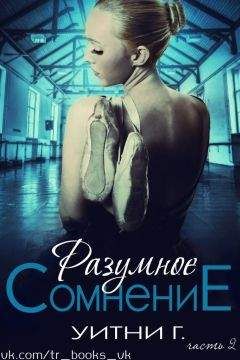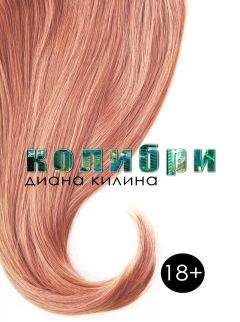Пьер Шоню - Во что я верую
«На пиру, устроенном одним знатным фессалийцем по имени Скопас, — пишет она[XIII] в начале своего увлекательного эссе, — поэт Симонид Кейский поёт лирическое стихотворение, сложенное в честь хозяина, но включающее и прославление Кастора и Поллукса[40]. Скаредность побуждает Скопаса сказать поэту, что за панегирик тот получит только половину условленной платы; остальное же он должен потребовать у божественных близнецов, которым он посвятил половину стихотворения. Немного погодя Симонида предупреждают, что снаружи его ждут двое пришедших к нему юношей. Покинув пир, он вышел, но никого не нашел. В его отсутствие крыша пиршественного покоя обрушилась, погребя под обломками Скопаса и всех гостей; их тела были настолько изуродованы, что их не смогли опознать даже пришедшие за ними родичи, собиравшиеся предать их земле. Но Симонид помнил, где кто сидел, и смог, таким образом, вывести пришедших из затруднения». Известно, какую первостепенную важность античное мышление придавало точному соблюдению погребальных обрядов для того, чтобы обеспечить покой загробному «двойнику» умершего — а также лишенное тревог существование оставшимся в живых. «Кастор и Поллукс в своё время щедро рассчитались за свою долю панегирика… И всё происшедшее наводит поэта на мысль об основах изобретенного им искусства памяти. Он понял, что главное — это упорядоченное расположение», что память о местах сохраняется лучше и что слова и, добавлю от себя, время, надлежит сочетать с пространством, чтобы добиться той дисциплины памяти,
которая отливается в воспоминание о прошлом, когда оно — результат отбора, сортировки, когда оно включено в распорядок бесконечно развертывающейся мысли, представляющей собой, подобно всему моему бытию, нерасчленимую непрерывность становления, — мысли, которую я могу созерцать посредством раздвоенности моей личности и моего мыслящего «я»: созерцать, замедлять, но не останавливать.
Ещё задолго до того как я узнал о существовании этой античной риторики, я пускал в ход ее искусство. От Меца до Вердена я выстроил для себя историческое пространство там, где прошли мои детские годы. В этом пространстве — и у меня в памяти — находилась война, 1914–1918 годы были повсюду. Между краем подступов к возвышенности Мёзы и Верденом моему взору открывалось огромное поле битвы с его самой страшной частью, с его высокими мёртвыми деревьями, с развалинами стен, с зияющими проломами в соборе. Не столь явными были следы, оставленные 1870 годом: Марс-ля-Тур, Гравлот. Двигаясь от Меца к Вердену, я проходил через войну 1870 года (которую не любил, потому что мы ее проиграли: «Эта свинья Базен!»[41]), — и, прежде чем погрузиться в войну 1914–1918 годов, я пересекал прежнюю, стертую, но всё еще существовавшую невидимо и неназойливо границу, обозначенную на отторгнутом склоне архитектурой времен Вильгельма[42]. При возвращении из Вердена в Мец классическая хронология шла в обратном порядке. Но меня это не смущало. История не исчерпывалась 1914–1918 и 1870 годами. Были еще и римляне. Об их присутствии наглядно свидетельствовали развалины акведука в Жуи-оз-Арш. К римлянам я испытывал гнетущее почтение. Они представляли собой время ноль, начало истории. Меня неотступно притягивали камни Жуи-оз-Арш, с их знаменитым красным цементом, рельефно выделявшим выступы и щербины на разъеденной временем кладке. Отличные каменотесы, эти римляне! — отмечали мои дядюшки. Какой ребенок не месил глину, чтобы попытаться возвести стену? Моему восхищению позднее нанесли урон злоключения Верцингеторикса[43]. Галлы, от которых для моего взгляда не осталось ничего, скрывались в густой тени. Главными вехами моей пространственной хронологии оставались 1914–1918, 1870 годы и римляне. А в промежутке — Людовик XIV, из-за учебного плаца (и Версаля, восхищавшего мою тётю), и Средние века (из-за собора в Меце); но сперва требовалось определить их официальный статус.
Истинная хронология связывалась с войной. В Меце всё напоминало о ее основных этапах. Мой дядя был рыбаком. Мы ходили вверх по течению Мозели до мостов железной дороги. Даже они говорили о войне. Первый, построенный до 1870 года, заброшенный, чем-то притягивающий меня, с метками, по которым можно было проследить распространение трещин. И следующий, построенный до 1914 года. В Меце было два вокзала: один — возведенный до 1870 года, невзрачный, невыразительный, — и другой, колоссальный, сооруженный по приказу императора[44], за те самые пять миллиардов (пять миллиардов Сары Бернар[45]).[46]
Да, война воистину была повсюду. Взрослые между собой говорили только об этом. Случалось, что речь заходила обо мне, о том, чего мне знать не полагалось; тогда они понижали голос. Война, таким образом, была временем близким и недоступным, тайной, откуда начиналось все. Война была этой белой дамой, Элоизой Шарль, моей матерью, умершей в расцвете лет, умершей вскоре после моего рождения.
История начиналась по ту сторону близко пролегающей черты, за которой все путается, переворачивается, теряется. История— это порядок, то «больше света»[47], что люди вышвыривают за пределы смерти. Ведь в начале — смерть, шум, ссора Мишеля Серра[48], а история — это что-то по ту сторону смерти. Я вижу, каким тяжким грузом лёг этот разрыв на уровне моего самого раннего детства на бессознательное начало в моем «я». Рассказы о былом были моей страстью. Подобно Геродоту, я пытался, при помощи своих меток и своего пространства, шероховатого от зарубок, напоминающих следы участия любой сверхъестественной силы[49], упорядочить поле всего того, что не пережил сам и что продолжало жить вокруг меня. Я испытывал потребность проследить до самого ее зарождения находящуюся внутри нас непрерывность становления, продлевая ее при этом за пределы зоны молчания, исходной точки. Я, к примеру, испытывал потребность придать большую протяженность настоящему и завладеть памятью каких-то других людей. Именно оттого, что в детстве, в самом начале жизни, я трагическим, таинственным, экзистенциальным образом повстречался с тем, что приходится называть смертью, во мне зародилась та бессознательная потребность в истории, с которой вновь я столкнулся уже много позже.
* * *
Выстраивать время — не значит вспоминать; выстраивать время — значит переживать ту непрерывность становления, что образует самую материю бытия. Выстраивать время — значит пытаться освободить его от той напряженности, которая остается укрытой в лоне временной протяженности, выстраивать время — значит в той или иной степени рассматривать его как пространство, стараясь, следовательно, хотя бы частично лишить его присущей ему специфичности: непрерывного продвижения вперед прошлого, когда поистине ничто не в состоянии помешать ему грызть будущее, которое неравномерными, но не поддающимися сравнению шагами беспрестанно отступает в неизменно одном и том же направлении. Рассматривать время как пространство — вот к чему, со времён Симонида Кейского, сводится усилие риторики, а с начала XVII века — и механистической философии: усилие, чью бесплодность пришлось констатировать новому научному духу.
Нет, мы не можем вырвать у времени временную протяженность в ее психологическом аспекте. Временная протяженность, опыт, здравый смысл, еще и поныне, и чуть больше, чем прежде, отражают течение времени. И цивилизованная память, та, что придает всему пространственный характер, память полезная, память историков (перечитайте Мишле![50]) нуждается в памяти самопроявляющейся — я предпочитаю сказать: в памяти стихийно сложившейся, в той, что доводит нас до самых крайних, порождающих тревогу пределов всякого начала, где как бы сплетаются вместе жизнь и смерть. И коль скоро такова память детей, то я не испытываю сожаления, чего бы мне это ни стоило, по поводу того, что по сей день сохранил этот дух детства.
Согласен с тем, что есть большая разница между пережитым, ощущением и воспоминанием. Она — не в степени, а в природе. Именно воспоминание, куда больше, чем ощущение, делает нас человеком, поскольку воспоминанию мы обязаны своим знанием смерти, тогда как животное переживает только ощущение того, что можно называть смертью лишь посредством неправомерно расширительного словоупотребления, неверного истолкования смысла.
Поистине человеком нас делает воспоминание. И, еще прежде чем сделать нас человеком, воспоминание делает нас ребенком. Воспоминания, полученные в детстве, неразлучны с нами. И каким бы ни было усилие по разумному упорядочению цивилизованной памяти, в которую отливается наша жизнь человека, мне кажется, что всегда следует тщательно сберегать дикорастущий сад самопроявляющейся памяти, дебри той нашей памяти, что сложилась стихийно.