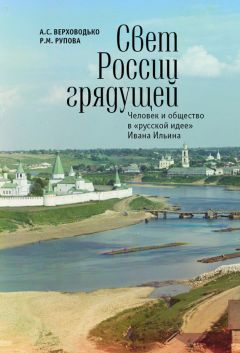Николай Никольский - История русской церкви
Ключ к разгадке этого возрождения беспоповщины в 40-х годах нам дает анализ ее социального состава в эту эпоху. До нас дошли любопытнейшие агентурные сведения о составе прихожан московских молелен и об их хозяевах. Хозяева всех крупнейших молелен — почти исключительно фабриканты. Преображенским кладбищем правил Ефим Федорович Гучков (родоначальник известных Гучковых начала XX в., дед А. И. Гучкова); его отец Ф. А. Гучков имел в Москве ткацкую фабрику, при которой была крупнейшая в Москве молельня; федосеезские молельни держали фабриканты Прохоров (на Трехгорке), /345/ Никифоров, Любушкины и другие. Та же картина в поморских согласиях: там мы встречаем имена фабрикантов Морозова, Зенкова, Гусарова, Макарова и других. В числе прихожан на первом месте стоят в молельнях фабрикантов их рабочие и «соседи», в молельнях купцов — их приказчики и «соседи». Эти «соседи» у федосеевцев чаще всего женского пола — целые дома вокруг молелен принадлежали их хозяевам (у Гучкова было 32 дома) и были заселены «девками»; постоянно упоминаются также и прижитые этими девками «блудно» ребята, воспитываемые, конечно, в духе беспоповщинского старообрядчества. Богадельный дом, находившийся на Преображенском кладбище, на 75 % был населен не старухами и стариками, а теми же девками, моментально разбегавшимися по домам соседнего Черкизова, как только подкупленный квартальный доносил, что едет начальство.
Перед нами совершенно ясная картина. Беспоповщинский торговый капитал пошел в конце 30-х годов в промышленность и использовал религиозную организацию в целях набора наиболее дешевой и наиболее тесно привязанной к фабрике рабочей силы. Тут впереди и оказались федосеевцы с их «радикальной» идеологией, отрицавшей и молитву за царя (ее после Ковылина благополучно упразднили), и брак. Эти два «кита» помогли им действовать гораздо успешнее поморцев и оставить далеко за собою элементарные приемы рогожцев. Те, как мы видели, выкупали от помещиков своих рабочих; это делали и федосеевцы, укрывая беглых и снабжая их паспортами умерших мещан, покупавшимися в Мещанской управе, или уплачивая за них выкуп помещикам и получая почти даровую рабочую силу, так как выкупная сумма всегда оказывалась с процентами такой высокой, что рабочий до самой смерти не мог ее отработать; особенным виртуозом в этой области был Гучков. Другим средством было предоставление бедным мещанам и в особенности мещанкам бесплатных квартир при условии принятия федосеевской веры; тут-то и выясняется происхождение «девок». Квартиры и «кельи» в Преображенском доме были, конечно, в действительности не даровыми — они оплачивались каторжным трудом «бесплатных» квартиранток, превращавшихся в ленточниц и набойщиц своего хозяина. Мало того, эти «девки» при федосеевском отрицании брака превращались в поставщиц будущих «белых рабов» для своих хозяев. Как известно, в 40-х годах фабриканты охотно брали детей из воспитательного дома, обычно /346/ в возрасте 12 лет, обязываясь обучить их ремеслу, содержать их на свой счет и по обучении платить до 1 руб. в месяц; по достижении совершеннолетия эти ученики получали от фабриканта 100 руб. и пару платья и могли либо остаться, либо уйти. Но федосеевцам не было надобности обращаться в воспитательный дом и подписывать еще при этом какие-то условия — у них были «девки», которые плодили детей без всяких условий, и притом эти дети привязывались к фабриканту узами религиозного гипноза. Поморцы, признававшие брак, оказались поэтому в худшем положении, чем федосеевцы; они могли действовать только деньгами. В 40-х годах на 20 верст кругом от Москвы трудно было найти деревню, в которой федосеевцы не вели бы успешной агитации и прежде всего среди баб и девок.
На этой же почве промышленного приложения скопленных торговлей капиталов оживилось в 40-х годах и поморское согласие. Выделение «нового» согласия было связано именно с этим процессом. Как мы видели, старообрядческая вера и культ были для новых фабрикантов средством для набора зависимой от предпринимателей рабочей силы. Введение нового пения взамен старого крюкового было одним из приемов привлечения к поморскому согласию новых адептов; благообразные напевы «новых» поморцев выгодно отличались не только от старого гнусавого поморского распева, но и от нечленораздельного козлогласования дьячков и пономарей на клиросе в деревенской православной церкви. Кроме того, поморцы, хотя и не в таких размерах, как федосеевцы, также привлекали будущих рабочих предоставлением «бесплатных квартир». «Брачная книга» нового согласия была средством борьбы с федосеевцами; как мы увидим ниже, для федосеевских капиталистов вопрос о браке и законных детях был в это время больным местом. Поэтому «брачная книга» поморцев не раз откалывала от Преображенского кладбища крупных прихожан, а это позволяло увеличивать капитал поморской общины нового согласия (старое согласие почти не имело общественного капитала) и расширять пропаганду. Однако поморцы не могли и думать о том, чтобы хоть сколько-нибудь сравняться с преображенцами. Мы уже указывали на всероссийский масштаб федосеевщины этой эпохи и на весьма ограниченную среду влияния поморцев; то же самое надо сказать и о капиталах. Общественный капитал поморцев нового согласия не превышал в 1847 г. 100 000 руб., в то /347/ время как капитал Преображенского кладбища исчислялся миллионами, по крайней мере в этом году из него были выданы две ссуды, одна в 500 000 руб. и другая в 100 000 руб.
Этот огромный капитал Преображенского кладбища сложился отчасти из остатков прежних фондов, скопленных при Ковылине, отчасти и главным образом из новых поступлений, притекавших в сундуки и тайники кладбища самыми разнообразными путями. В числе этих последних старый ковылинский способ — привлечение наследств — отступил на второй план, ибо федосеевские тузы старались теперь сами держать и копить деньгу и предпочитали получать деньги из кладбища, а не давать туда. Настоятелю кладбища, наставнику Семену Козьмину, приходилось тратить немало красноречия и энергии, чтобы уговорить умиравшего толстосума завещать что-либо кладбищу. Так, в конце 1845 г. Козьмин несколько дней безотлучно дежурил у постели умиравшего купца Соколова, вынудил у него согласие на завещание всего капитала и всей движимости кладбищу и сейчас же после смерти Соколова, ночью, в 12 часов, опасаясь, очевидно, протестов наследников, пригнал кладбищенских лошадей и вывез все имущество на кладбище. Родственник Соколова, Рогожин, предъявивший права наследства, так и не мог сыскать пропавшего имущества, хотя о его местонахождении прекрасно знала московская полиция, ибо подробная реляция об этой ночной операции была немедленно доставлена куда следует полицейским сыщиком. Но те же сыщики доносили, что вся московская полиция и все православное духовенство Лефортовского района, где находились дома и фабрики федосеевцев, щедро «угобжались золотым дождем», а про жандармского генерала Перфильева, назначенного в 1848 г. казенным попечителем кладбища, сообщали, что он якобы сказал Козьмину: «До тех пор, пока у вас миллионы в сундуках будут, то как вы, так и обитель ваша просуществуете». Поэтому неудивительно, что московская полиция нередко оставалась безучастной зрительницей «маленьких» нарушений права собственности, происходивших в среде преображенцев. Накопление миллионов Преображенского кладбища происходило теперь главным образом коммерческим путем. Кладбище в 40-х годах стало крупным торгово-промышленным предприятием, снабжавшим не только все федосеевские, но и поморские общины материалами и предметами культа. При кладбище был устроен /348/ свечной завод, кладбище торговало ладаном- и деревянным маслом; чистая прибыль от одного масла в 1847 г. достигала 50 000 руб. Но особенно выгодна была торговля иконами старого письма. Появлявшиеся в 40-х годах, как грибы после дождя, федосеевские и поморские молельни предъявляли огромный спрос на иконы старого письма, и их хозяева платили за такие иконы, не торгуясь, огромные деньги. Преображенцы организовали в широких размерах «заготовку» этих икон. Пользуясь бедностью и жадностью до денег православных причетников и монахов, Преображенцы за небольшие суммы доставали иконы старого письма из московских и особенно из северных церквей, подменяя их искусно сделанными копиями, которые делались в иконописной мастерской при Преображенском кладбище. Полученный таким жульническим путем товар сейчас же сплавлялся с кладбища заказчикам. Московское начальство пробовало было начать по этому поводу дело, но оно сейчас же было затушено «золотым дождем».
Капиталы Преображенского кладбища служили, конечно, вовсе не целям спасения душ призревавшихся там стариков и старух, но обращались на пользу все той же коммерции. На них содержались «девки» на кладбище; для тех же «девок» кладбище купило (на имя купцов) 7 домов, где также содержалась женская резервная армия; наконец, кладбищенские капиталы были постоянным денежным резервом для федосеевских купцов и фабрикантов. Мы уже упоминали, что кладбище выдавало огромные ссуды совсем без процентов или за ничтожные проценты (ссуда в 500 000 была дана всего за 4 %). Но этого мало: попечители кладбища, в особенности правящая тройка — Козьмин, Гучков и Никифоров, без всякого контроля и без всякой отдачи брали из капиталов кладбища большие суммы на свои дела. Диктаторское положение Гучкова в федосеевской общине объясняется именно тем обстоятельством, что основная часть кладбищенского капитала была у него на руках; на кладбище держали только небольшие суммы из опасения обысков. Значение кладбищенского капитала для федосеевской коммерции лучше всего иллюстрируется тем фактом, что перед пасхой, когда обычно фабриканты производили годовой расчет с рабочими, большинство православных фабрикантов вынуждены были прибегать к кредиту, а федосеевцы никогда не нуждались в деньгах и не выдавали векселей./349/


![Николай Саврасов - Люди Солнца[СИ]](/uploads/posts/books/107446/107446.jpg)