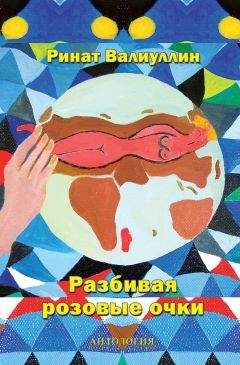Карен Амстронг - История Бога
Евреи могли положить конец изгнанию Шехины. Соблюдая мицвот, они могли возродить своего Бога. Весьма любопытно сравнить этот миф с протестантским богословием, которое разрабатывали в ту же эпоху Лютер и Кальвин. Оба протестантских реформатора проповедовали абсолютное владычество Господа. По их учению, как мы еще увидим, люди совершенно не в состоянии что-либо сделать для собственного спасения. Доктрина Лурии, напротив, призывала к действию: люди нужны Богу, без их молитв и добрых дел Он будет оставаться неполным. Несмотря на трагедию, постигшую еврейский народ в Европе, мнение иудеев о человечестве было куда оптимистичнее протестантского. Лурия считал, что миссия тиккун должна осуществляться через созерцание. Пока европейские христиане - и католики, и протестанты - формулировали все новые догмы, Лурия возрождал мистические приемы Авраама Абулафии, помогавшие евреям возвышаться над чисто рассудочной деятельностью и воспитывать в себе интуитивное осознание. Комбинируя, в духе Абулафии, буквы Имени Бога, каббалисты помнили, что само содержание понятия "Бог" человеческим языком передать невозможно. В мифологии Лурии такая перестановка букв символизировала также реорганизацию, перестройку Божества. Хаим Виталь рассказывает о невероятном эмоциональном воздействии методов Лурии: бодрствование, когда все спят, пост, когда все едят, систематическое уединение - иными словами, отстраненность от повседневных занятий - позволяли каббалистам сосредоточиться на странных "словах", не имевших ничего общего с привычной речью. Каббалист словно переносился в другой мир, он весь дрожал и трепетал, как если бы оказался во власти незримых сил.
Но тревоги не было. Лурия настаивал на том, что перед духовными упражнениями каббалист должен успокоить свой ум. Очень важны счастье и радость: не нужно ни каяться, ни беспокоиться о том, хорошо ли все получается, ни терзаться угрызениями совести или чувством вины. Виталь говорил, что Шехина не может жить в том месте, где царят горечь и уныние; эта идея восходит еще к Талмуду. Источник печали - силы зла в нашем мире, а счастье, напротив, помогает каббалисту любить Бога и сближаться с Ним. В душе каббалиста не должно быть ненависти и зависти к кому бы то ни было, даже к гойим. Лурия приравнивал гнев к идолопоклонству, поскольку озлобленный человек одержим неким "чужим богом".
Лурианский мистицизм легко критиковать. Как указывает Гершом Шолем, тайна Бога Эн Соф, столь впечатляющая в книге "Зогар", заметно теряется в драме цимцум, "Разрушении Сосудов" и в процессе тиккун{6}. В следующей главе мы увидим, как это стало одной из причин трагического и нелепого события еврейской истории. Тем не менее представления Лурии о Боге помогли евреям воспитать в себе дух веселья, доброты и благожелательного отношения к людям даже в те времена, когда озлобленность и стыд ввергали многих иудеев в пучины отчаяния и неверия.
Европейским христианам так и не удалось развить столь жизнеутверждающую духовность. Они тоже переживали исторические трагедии, но философская религия схоластов смягчить терзания человека не могла. Чума 1348 года, падение Константинополя в 1453 году, церковные распри, связанные с Авиньонским пленением пап (1334-1342 гг.) и "Великим расколом" (1378-1417 гг.), словно выставили напоказ человеческое бессилие и принесли Церкви дурную славу. Складывалось впечатление, что без помощи Господа люди просто не в силах избежать некоего ужасного предназначения. Вполне естественно, что в XVI-XVII вв. такие богословы, как Иоанн Дуне Скот из Оксфорда (1265-1308 гг.) (не путать с Иоанном Скотом Эриугеной!) и француз Иоанн Герсон (1363-1429 гг.), подчеркивали владычество Бога, руководящего земными делами со строгостью абсолютного монарха. Люди не в состоянии повысить свои шансы на Спасение. Добрые дела сами по себе ничего не значат и благотворны лишь по милости Бога, поскольку Он утверждает их благими. Однако в те столетия наметилось и смещение ценностей. Сам Герсон был мистиком, для которого лучше "держаться прежде всего любви Божьей, не задаваясь возвышенными вопросами", нежели "стремиться постичь природу Госиода силой суждений, пусть даже основанных на истинной вере"{7}. Мы уже знаем, что в XIV веке Европа проявляла повышенный интерес к мистицизму, и люди начинали сознавать, что рассудок не приспособлен для изъяснения того таинства, которое именуют "Богом". Как сказал в своем "Подражании Христу" Фома Кемпийский:
Что пользы тебе высоко мудрствовать о Троице, когда нет в тебе смирения и оттого ты Троице не угоден? […] Пусть не умею определить, что есть благоговение: лишь бы я его чувствовал. Если знаешь всю Библию и все изречения мудрецов, что пользы во всем том, когда нет любви и благочестия?{8}
"Подражание Христу" с его весьма мрачной и унылой религиозностью стало одним из самых популярных на Западе сочинений на духовную тему. В тот период религиозное чувство все больше сосредоточивалось на Иисусе-Человеке. Практика создания изображений Распятия побуждала вникать во все подробности душевных и телесных мучений Иисуса. В правилах созерцания, написанных примерно в XIV веке анонимным автором, читателю внушалось, что утром, после практически всенощных размышлений о Тайной Вечере и трагедии в Гефсиманском саду, глаза верующего все еще должны быть красны от рыданий. Проснувшись, он должен без промедления погрузиться в размышления о суде на Иисусом и в мыслях час за часом повторить весь Его путь на Голгофу. Читателю предлагалось воображать, будто он сам выступает на суде в защиту Христа, сидит рядом с Ним в темнице и лобзает Его скованные руки и ноги{9}. О Воскресении в этом гнетущем сочинении не говорилось почти ничего - подчеркивалась, напротив, лишь уязвимость Иисуса-Человека. Неистовство страстей и - по нашим современным понятиям - нездоровое любопытство характерны для многих подобных текстов. Даже такие великие мистики, как Бригитта Шведская и Юлиана Норвичская, подчас смакуют подробности, касающиеся физического состояния Иисуса:
И видела я Его милый лик сухим, бескровным и мертвенно-бледным. И эта мертвенная и безжизненная бледность перешла после смерти в голубизну, а та, по мере гибели плоти, сменялась постепенно коричневато-синим. И страсти Его открылись мне прежде всего в этом благословенном лице и, особенно, в Его устах. В них я видела смену тех же четырех оттенков, хотя прежде были эти уста свежие, красные и приятные. Горько было смотреть, как менялся Он, умирая. Ноздри Его тоже морщились и увядали прямо на глазах, а милое тело почернело и побурело, иссушенное смертью{10}.
Сразу вспоминаются немецкие распятия XIV века с их гротескно искривленными телами и извергающейся кровью; своей вершины этот стиль достиг, конечно же, в произведениях Матиса Грюневальда (1480-1528 гг.). Юлиана Норвичская была настоящим мистиком и испытала великие откровения природы Бога; в частности, Троица, по ее мнению, живет в человеческой душе, а не пребывает "там", в иной действительности. Тем не менее даже ей трудно было противостоять столь мощному на Западе соблазну сосредоточения на Иисусе-Человеке. В XIV-XV столетиях жители Европы все чаще делали центром своей духовной жизни не Бога, а людей. Наряду с возрастающим почтением к Иисусу-Человеку усиливались также средневековые культы Девы Марии и святых. Восторженное отношение к реликвиям и святым местам отвлекало западных христиан от самого главного - казалось, люди готовы сосредоточиться на чем угодно, кроме Самого Бога.
Мрачная сторона западного духа проявилась даже в эпоху Возрождения. Философы и гуманисты того времени чрезвычайно скептически относились почти ко всем граням средневековой религиозности. Жгучую неприязнь вызывала у них страсть схоластов к невразумительным и скучным умозрениям, безнадежно отдалявшим Бога и умертвлявшим всякий интерес к Нему. В эпоху Возрождения люди мечтали вернуться к истокам веры и, в частности, к блаженному Августину. В средние века Августина чтили как богослова, но, перечитав "Исповедь", гуманисты поняли, что перед ними - собрат по поискам себя. Как утверждали гуманисты, христианство - не свод доктрин, а переживание. Лоренцо Балла (1407-1457 гг.) особо подчеркивал бесполезность попыток соединить священные догмы с "хитросплетениями диалектики" и "метафизической игрой слов"{11}, ведь "тщеты" эти осуждал еще апостол Павел. Франческо Петрарка (1304-1374 гг.) полагал, что "богословие есть на самом деле поэзия - стихи о Боге", и действенно оно не в силу "доказательности", а потому, что пронзает сердце{12}. Гуманисты заново открыли человеческое достоинство, но это не заставило их отречься от Бога - напротив, как истинные сыны своей эпохи, они с пылом говорили о человечности Господа, который Сам становился Человеком. Былые сомнения, однако, оставались. В эпоху Возрождения люди глубокого сознавали непрочность своих познаний и, конечно, разделили бы обостренное ощущение греховности, присущее Августину. Как сказал Петрарка: