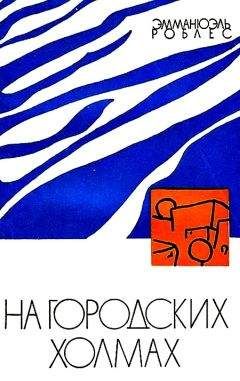Η. О. Лосский - Воспоминания
27
Относительно Наталии Александровны Дэддингтон прибавлю, что большинство переводов на английский язык трудов моего отца принадлежит ее перу.
29
В рассказ о лете 1914 года проведенном в Швеции внесу следующие дополнения и поправки: Из Петербурга в Стокгольм через Гельсингфорс плыли мы на только что отремонтированном финляндском пароходе, которого название вошло, лет двадцать перед тем, в русскую поэзию со стихами Владимира Соловьева, заканчивающимися восклицанием «Солнце, солнце опять победило!» и озаглавленными На палубе Торнео. К перечисленным семи лицам следует приписать и Настю Иванову, бабушкину гимназистку–пансионерку. К обратному же пути членов семьи и домочадцев набралось одиннадцать. В Стокгольме остановились мы в Hotel Excelsior, а по Готскому каналу спускались на ныне еще плавающем пароходе Mol'alastrom, но не до Гетеборга, а до Трольгетекого водопада, полюбовавшись на который, мы добрались поездом до Люнгшиле, ближайшей станции от курорта Люкорна. Другое место, где поселились русские друзья, было не город Уддевалла, а селенье Ульвезунд. Все эти местечки сообщались при помощи Motoryach‑ten Drott, управляемого старым моряком Оссианом Андерсоном, который всегда оказывал особые знаки внимания и симпатии бабушке Стоюниной. На обратном пути, когда пароход Gauthiod, после опасной переправы через Ботнический залив, причалил к порту Раумо, находящиеся на нем русские составили благодарственный адрес Нобелю, чтение которого было поручено моему отцу.
30
В этой части воспоминаний, повествующей о революционном пятилетии нашей жизни, хронологическая последовательность событий соблюдена не всегда и чувствуются во многом тридцать лет зарубежной жизни в эмигрантской среде, относившейся огульно–отрицательно ко всему происходившему на родине. Конечно, с самого начала Революции отец был деятельно–непримиримым и неутомимым противником марксистской идеологии, но рядом с этим считал себя лояльным подданным русского государства и не поддавался (ни до ни после изгнания) психологии пораженчества, за что и терпел немало осуждений от зарубежных соотечественников.
31
Относительно постепенного возвращения отца к религии могу свидетельствовать о следующем: До Революции из всей нашей семьи в церковь не ходил только он один. Помню однако, что в революционную весну 1917 года, когда среди моих классных товарищей (детей 11—12 лет) стали подниматься разговоры о несуществовании Бога, что меня страшно огорчало, я уже знал хорошо, что за утешительными апологетическими аргументами надо было обращаться к отцу. Летом этого года, когда мы по случаю освящения колокола в церкви дачного поселка Карташевки (близ Сиверской) стояли на молебне, отец перекрестился и помню, что меня это поразило, как явление еще совсем непривычное. Говеть после тридцати летнего перерыва (см. главу II) начал он, может быть, на страстную неделю 1918 года и, во всяком случае, был на духу перед Пасхой 1919 года, у отца Иоанна Слободского, который полгода перед тем хоронил мою сестру Марусю. Помню, что именно в этом году он убедил брата Владимира, переживавшего кризис неверия, не отвращаться от исповеди и причастия (что в следующие годы было бы совсем излишним).
33
На лекции Бог в системе органического мировоззрения в Доме Искусства (который Ольга Форш прозвала Сумасшедшим кораблем в своей так озаглавленной повести) выступило много оппонентов. Андрей Белый в черной ермолке, которому недоедание придавало аскетический вид, занялся какими‑то ментальными построениями, опуская перпендикуляр с одной из вершин пятиконечной звезды на прямую, соединяющую ее противолежащие вершины. Некий Штейн, наверно тоже «вольфилец», блистал мудреными терминами и заключил, что кроме недоумения, лекция вызвать у него ничего не могла. Иванов–Разумник (с которым отец тогда еще знаком не был), вставший на позицию не то байроновского героя, не то Ивана Карамазова, высказался в направлении не отрицания, а неприятия Бога, а пуще всего Его благодати. Какой‑то человек, похожий на инженера, восклицал: «Лосский, царь философии, впал в обскурантизм». Смехотворный доктор Шапиро принял понятие «органическое» за «материалистическое». Наконец выскочил милейший полячок по имени Пигулевский и приветствовал присутствующих с тем, что они собрались не для обсуждения житейских или политических вопросов, но на своего рода духовный пир, на что ему было сказано, что говорит он не на тему. В газетах о лекции вышли, конечно, только грубо–невежественные отклики, под которыми вполне мог бы расписаться шекспировский Калибан. Недавно я узнал, что воспоминание о докладе отца нашло место (в более культурной форме) в чьих‑то, изданных в Сов. Союзе, литературных мемуарах, где говорится, что среди его слушателей был и Александр Блок, которому оставалось еще полтора года жизни.
34
Выступление отца на чествовании Гайдебуровской труппы после (а не до) юбилейного представления Свыше наших сил оставило во мне воспоминание довольно тягостное. Главным образом мне самому определенно казалось, что отец хотел во что бы то ни стало усмотреть и раскрыть религиозно–философские глубины и тонкости в пьесе Бьернсона, которая, напротив, слишком хорошо отвечала своему заглавию. Во всяком случае было ясно, что для собравшейся разношерстной публики, и даже для самой труппы, живописно расположившейся полусидя, полулежа на сцене, чтобы слушать похвалы а не доклады, это был «не в коня корм» и не удивительно, что в зале все время раздавался нетерпеливый кашель и скрип складных стульев. Товарищ Ядвига, исказившая по–своему смысл пьесы Бьернсона, делая из нее грубый инструмент антирелигиозной пропаганды, говорила со всеми повадками тогдашних ораторов. Помнится, было там все: и неизбежная вступительная формула «когда 25 октября…», и упоминание о «наших мозолистых руках», и ритмическое размахивание правой рукою, как будто вбивающей гвозди в голову слушателя. За нею выступил картавящий брюнет, что‑то вроде партинструктора, и приветствовал труппу в таком же изысканном стиле: «В вашем театре наши товарищи находили того кое–чего, чего они не находили в других театрах», причем сложенные щепоткой пальцы правой руки давали понять, что в этом кое–чего и был «самый цимес» ценимого пролетариатом искусства.
Что же до импровизированного выступления Питирима Сорокина, я помню со всею ясностью, как он, держа перед собою листики с заметками и взглядывая поверх очков на собравшихся, провозгласил в заключение, окая как семинарист: «а вместо чуда… — дохлая ворона». На Нила Сорского он ссылался в какой‑то другой речи или лекции.
35
Вокруг личности живоцерковника Введенского возникало много других недоразумений. Нередко путали его с профессором философии, тоже Александром. А упомянутый Пичулин, священник из интеллигентов (ходивший в рясе, как будто переделанной из бархатного красного дамского платья или занавески), рассказал нам однажды следующее: идя где‑то по пригороду, он услышал за собой ускоренные шаги догонявшего его человека и оглянувшись увидел бабу, свирепо размахнувшуюся лопатой, которая должна была через секунду обрушиться на его голову. Увидев его лицо, воинственная незнакомка опустила оружие со словами: «Простите, батюшка, а я‑то вас приняла за Введенского».
36
Отец рассказывал нам еще об одной интересной встрече в здании ГПУ, на Гороховой 2, но уже в тюремном дортуаре, который был, по–видимому, устроен в бывшей полицейской казарме помещавшегося там до Революции Градоначальства. Когда их группу ввели в это мрачное помещение переполненное арестантами, они узнали в одном из них графа Валентина Платоновича Зубова, основателя Института Истории Искусства (в своем особняке на Исаакиевской площади), продолжавшего быть директором этого учреждения, которое' стало после Революции частью Петроградского университета. На новоарестованных он произвел впечатление уже опытного тюремного обывателя, успевшего преодолеть в себе отвращение к похлёбке из селедочных голов и хвостов. Об этой встрече вспоминает и гр. В. П. Зубов в своих недавно вышедших мемуарах «Страдные годы России».
37
По поводу «добродушной жестокости» следователя Козловского (с ним, кажется, имела дело лет пять спустя Т. В. Сопожникова–Черна–вина, автор воспоминаний Жена Вредителя), вспоминаю нечто подобное из того же времени. Сидя у парикмахера, придурковатого парнишки Остапковича (который походил было в бабушкину гимназию, но скоро вернулся к семейному ремеслу) я ему сказал, что моего отца и других арестованных профессоров скоро выпустят ввиду высылки за границу, на что он мне ответил с важностью осведомленного человека: «Как бы не так, определенно всех расстреляют», так просто, как если бы говорил мне, что сейчас пойдет дождь.