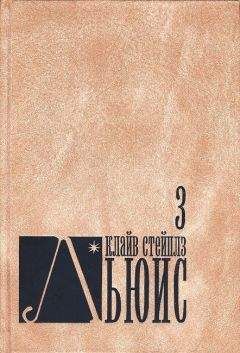Гилберт Кийт Честертон - Писатель в газете
Раскинувшаяся по всей стране сеть полиции, связывающая полицейского из отдаленной деревушки со Скотланд–ярдом, возникла сравнительно недавно. Еще живо в памяти то время, когда блюстители порядка в цилиндрах безуспешно пытались догнать разбойников, скачущих на лошадях, или когда бандитская шайка могла захватить и удержать такой укрепленный пункт, как Дун или Макгрегор [271]. В былые времена атаман мог изгнать короля из его замка и собрать под свои знамена луков и копий не меньше, чем в королевской армии. Другими словами, часто случалось так, что преступный мир был организован и вооружен не хуже полиции.
В конце концов, возможно, что это лишь на мгновение бедняга Билл Сайкс вынужден был ограничиться жалкой дубинкой или кольтом, который ему приходилось прятать в кармане. Лишь на мгновение промелькнула фигура всемогущего полицейского викторианской эпохи. В предприимчивом, технически развитом, оснащенном последними достижениями науки Чикаго послевикторианской эпохи преступный мир предприимчив, технически развит и оснащен последними достижениями науки не меньше, а то и больше, чем полиция. И если современное общество распадается, будем надеяться, что оно не распадется на самостоятельные организации, обладающие структурой и вооружением независимого государства, так что законное правительство не отличишь от главарей преступного заговора. Одному богу известно, где больше бандитов. Вот в чем историческое значение преступника с автоматом. Теперь от него зависит судьба государства, и он в состоянии перейти от одиночных убийств к массовым.
ИЗ СБОРНИКА «ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (1950)
О ЧТЕНИИ
Главная польза от чтения великих писателей не имеет отношения к литературе, она не связана ни с великолепием стиля, ни даже с воспитанием наших чувств. Читать хорошие книги полезно потому, что они не дают нам стать «истинно современными людьми». Становясь «современными», мы приковываем себя к последнему предрассудку; так, потратив последние деньги на модную шляпу, мы обрекаем себя на старомодность. Дорога столетий усеяна трупами «истинно современных людей». А литература — вечная, классическая литература — непрерывно напоминает нам о немодных истинах, уравновешивающих те новые взгляды, которым мы могли бы поддаться.
Время от времени (особенно в беспокойные эпохи вроде нашей) на свете появляются особые веяния. В старину их звали ересями, теперь зовут идеями. Иногда они хоть чем–нибудь полезны, иногда целиком и полностью вредны. Но всегда они сводятся к одной правде или, точнее, полуправде. Так, можно стремиться к простой жизни, но не стоит забывать ради нее о радости или о вежливости. Еретики (или фанатики) не те, кто любит истину слишком сильно; истину нельзя любить слишком сильно. Еретик тот, кто любит свою истину больше, чем Истину. Он предпочитает полуправду, которую отыскал сам, правде, которую отыскали люди; он ни за что не хочет понять, что его драгоценный парадокс связан с дюжинами общих мест и только все они, целиком, составляют мудрость мира.
Иногда такие люди суровы и просты, как Толстой; иногда по–женски болтливы и чувствительны, как Ницше; иногда умны, находчивы и отважны, как Шоу. Они всегда возбуждают интерес и нередко находят последователей. Но всегда и всюду в их успех вкрадывается одна и та же ошибка. Все думают, что они открыли что–то новое. На самом же деле нова не сама идея, а полное отсутствие других, уравновешивающих ее идей. Очень может быть, что ту же самую мысль мы найдем во всех великих, классических книгах от Гомера и Вергилия до Филдинга и Диккенса; только там она — на своем месте, другие мысли дополняют ее, а иногда опровергают. Великие писатели не отдали должного нашим модным поветриям не потому, что до них не додумались, а потому, что додумались и до них, и до всех ответов на них.
Если это все еще неясно, приведу два примера. Оба они связаны с тем, что модно сейчас и в ходу среди смелых, современных людей. Всякий знает, что Ницше проповедовал учение, которое и сам он, и все его последователи считали истинным переворотом. Он утверждал, что привычная мораль альтруизма выдумана слабыми, чтобы помешать сильным взять над ними власть. Не все современные люди соглашаются с этим, но все считают, что это ново и неслыханно. Никто не сомневается, что великие писатели прошлого — скажем, Шекспир — не исповедовали этой веры потому, что до нее не додумались. Но откройте последний акт «Ричарда III», и вы найдете не только все ницшеанство — вы найдете и самые термины Ницше. Ричард–горбун говорит вельможам:
Что совесть? Измышленье слабых духом,
Чтоб сильных обуздать и обессилить [272].
Шекспир не только додумался до ницшеанского права сильных — он знал ему цену и место. А место ему — в устах полоумного калеки накануне поражения. Ненавидеть слабых может только угрюмый, тщеславный и очень больной человек — такой, как Ричард или Ницше. Да, не надо думать, что старые классики не видели новых идей. Они видели их; Шекспир видел ницшеанство, он видел его насквозь.
Приведу другой пример. Бернард Шоу в своей блистательной и честной пьесе «Майор Барбара» бросает в лицо прописной морали один из самых яростных вызовов. Мы говорим: «Бедность не порок». Нет, отвечает Шоу, бедность — порок, мать всех пороков. Преступно оставаться бедным, если можешь взбунтоваться и стать богатым. Тот, кто беден, — малодушен, угодлив или подл. По некоторым признакам и Шоу, и многие его поклонники отводят этой идее большую роль. И как обычно, нова эта роль, а не идея. Еще Бекки Шарп говорила, что нетрудно быть хорошей за 1000 фунтов в год и очень трудно — за 100 фунтов [273]. Как и в предыдущем случае, Теккерей не только знал такой взгляд — он знал ему цену. Он знал, что это придет в голову умному и довольно искреннему человеку, абсолютно не подозревающему обо всем том, ради чего стоит жить. Цинизм Бекки, уравновешенный леди Джейн и Доббином, по–своему остроумен и поверхностно правдив. Цинизм Андершафта и Шоу, провозглашенный со всей серьезностью проповеди, просто неверен. Просто неверно, что очень бедные люди подлее или угодливее богатых. Полуправда остроумной Бекки стала сперва причудой, потом поветрием и наконец — ложью.
И в первом и во втором случае можно сделать один и тот же вывод. То, что мы зовем «новыми идеями», чаще всего — осколки старых. Не надо думать, что та или иная мысль не приходила великим в голову: она приходила и находила там много лучших мыслей, готовых выбить из нее дурь.
ИЗ СБОРНИКА «ПРИГОРШНЯ АВТОРОВ» (1953)
ШЕРЛОК ХОЛМС
I
Возвращение Шерлока Холмса в «Стрэнд магазин» [274] через несколько лет после смерти окончательно утвердило почти героическую популярность этой фигуры, реальность которой под стать неоспоримой реальности вымышленного древнего героя какой–нибудь средневековой истории. Подобно тому как должны вернуться Артур и Барбаросса [275], люди чувствовали, что наступит время вернуться и этому невероятному сыщику. Из вымышленного литературного персонажа он превратился в живую легенду и в доказательство тому унаследовал громкую, немеркнущую славу легендарного героя, славу, не позволяющую усомниться в его бессмертии. Неброская, насквозь вымышленная фигура, не без иронии выведенная в недолговечном авантюрном повествовании, Холмс как будто бы не заслуживает столь высокопарных слов. И тем не менее факт остается фактом: герой Конан Дойла является, пожалуй, единственным литературным персонажем со времен Диккенса, который прочно вошел в жизнь и язык народа, став чем–то вроде Джона Булля или Санта Клауса. Любопытно, что, хотя у нас найдётся немало писателей, всеобщее признание которых подтверждается огромными тиражами и бурными дискуссиями, лишь один Конан Дойл создал героев, превратившихся для каждого в тип или символ, подобно тому как Пекснифф олицетворяет собой лицемерие, а Бамбл [276] — чиновничье самодовольство. Редьярд Киплинг, например, несомненно, популярный писатель, однако, если мы подойдём к первому встречному и скажем, что такая–то проблема наверняка озадачила бы даже Стрикленда [277], наше заявление будет воспринято с куда меньшим участием, чем если бы мы сказали то же самое о Шерлоке Холмсе. Истории мистера Киплинга доставляют неистощимое интеллектуальное наслаждение, однако запоминается нам не образ главного героя, а рассказ в целом. Мы помним о действии его прозы, но напрочь забываем о действующих лицах. Ни одному из современных героев, за исключением Шерлока Холмса, не удается выйти за пределы книги, подобно тому, как, разбивая скорлупу, выбирается на свет цыпленок. Такое удавалось героям Диккенса. В «Записках Пикквикского клуба» только намечался образ Сэма Уэллера; Сэм Уэллер грандиознее, чем книга, в которой он выведен: мы можем испытывать его философию на себе, мы можем продолжить его приключения в наших фантазиях.