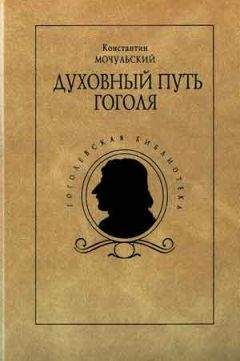Константин Мочульский - Кризис воображения
О гибели Европы заученными голосами повторяют все репортеры. Это — воздух, в котором мы живем. И каждый спасается, как может. В католичестве, в американизме, в коммунизме. Спасаются, отталкиваясь от Франции, как от старого мира, обреченного на гибель. Бегут от нее, как с тонущего корабля. И пускаясь в неведомый, быть может, последний путь, оборачиваются с тоской —
Франция, самая прекрасная, самая сильная наша любовь.
О ГЕРМАНИИ
Мировая война — главная тема всей немецкой литературы. В первое десятилетие после Версальского мира, в Германии, как и во Франции, войну старались «ликвидировать». Новые писатели, пришедшие на смену экспрессионистам, хотели забыть прошлое, взглянуть на мир детскими глазами, построить новую жизнь. Из этого официального оптимизма ничего не вышло. Не помогли многотомные исторические романы, прославлявшие великое прошлое Империи (Шуленбург, Бруно Франк, Нейман, Фейхтвангер). Не помогли наспех сочиненные утешительные теории о германской миссии на Востоке и о новом европеизме. Военная тема постепенно вытесняла все другие и, наконец, стала господствующей. Германия живет войной не как воспоминанием, а как единственной реальностью. Кажется, что только теперь, на расстоянии, она увидела ее огромную тень.
Когда во Францию с опозданием дошли слухи о необычайном успехе книги Ремарка «На западном фронте без перемен», их встретили с недоверием. «Как, опять книга о войне? Кажется, все уже было сказано». Но после Ремарка всем стало понятно, что это — первая книга о войне. Значение ее — в разрушении лжи о возрождении Европы. Как будто до Ремарка существовало молчаливое соглашение о том, что с войной покончено. Рана заживает, больной выздоравливает и Ремарк имел дерзость сказать, что произошло непоправимое. На месте, выжженном войной, ничего не растет и не вырастет.
Поколение, принесенное в жертву войне, оставило после себя пустоту, которую нечем заполнить. Возвратившиеся завидуют погибшим. Мир еще горше войны.
В прошлом году три прославленных писателя, Глезер, Ренн и Ремарк издали продолжения своих романов: Глезер «Мир» (Frieden), Рейн — «После войны» (Nachkrieg) и Ремарк — «Обратный путь» (Weg Zuruck).
Объяснять безнадежно мрачный тон этих книг угнетенным состоянием побежденных было бы слишком по–марксистски. Пессимизм авторов не исчерпывается никакими экономическими и социальными «факторами». Он говорит о трагической неудаче всей нашей культуры, о гибели человеческой души. Герой Глезера, семнадцатилетний гимназист, издевается не только над мелкими лавочниками и чиновниками, которым суждено строить новую Германию, но и над возвращающимися с фронта «героями» — «недовольными и трусливыми», над революционерами, честолюбивыми лгунами, над народом, так легко примирившимся с бесславием родины. Книга Ренна страшна своим отчаянием. «Небо было серо. Шел дождь. И все показалось мне таким безнадежным и пустынным, что не стоило жить». Автор бесстрастно записывает свои наблюдения. Великая Германия рухнула. И никто, как будто, этого не заметил. Ничего в сущности не произошло. Фельдфебель Людвиг Ренн механически, по бессмысленной привычке продолжает исполнять свой долг (Pigient). Вся героическая ложь Германии — доблесть, кайзер, империя — не держалась ли она на таком же автоматизме? У Ремарка — то же недоверие к человеку, то же бешеное отвращение к болтовне о возрождении и просветлении. Строить незачем и не для кого. Война разрушила последнюю самую живую ложь: о ценности человека; гуманизм кончен и навсегда. «Будущее наше погибло, ибо погибла та молодежь, которая несла в себе это будущее. Мы — обломки, мы доживем свой век… Подумайте только! Целое поколение уничтожено. Поколение, полное надежд, веры, воли, энергии и силы».
Немецкие книги о послевоенной эпохе свидетельствуют об упадке, нравственной распущенности, массовой неврастении. В драмах Толлера, Кайзера и Брукнера — вся страна изображается, как сумасшедший дом или притон разврата.
Но в Германии противоречия преспокойно уживаются. Литературной теме о конце цивилизации и гибели человека отвечает другой мотив: социального строительства и новой Европы. Обожание Достоевского не мешает преклонению перед Лениным. Мы слышим о растущем поколении здоровых, сильных и закаленных людей, которые отвергают старый романтизм во имя «новой вещественности» — neue Sachlichkeit. Нам только что казалось, что в Германии «все пустынно и безнадежно» — мы ошибались. Никогда еще жизнь не была там столь напряженной, страстной и увлекательной. Разочарование — и пафос «современности». Крушение старого «Могущества» («Macht») и создание новой силы» («Kraft»).
Новый идеал — неясный, но пленительный — «модернизм». В нем кое что от Америки, кое что от советской России; доля революционности и доля древне–тевтонского геройства. Все в движении, в стремительном ритме.
Вечное изменение — такова природа германского духа.
МИХ. ОСОРГИН. «ЧУДО НА ОЗЕРЕ»
Рассказы, вошедшие в сборник «Чудо на озере» посвящены воспоминаниям о далеком прошлом: о детстве и юности автора, о его семье, о гимназических годах, о первых увлечениях и радостях, о любви и родной земле, о людях и вещах, давно и навсегда потерянных. Прошлое это было когда то самой обыкновенной жизнью, тихой и ровной, налаженным бытом, без громких событий, без бурных страстей. Автор жил «как все» — зимой учился в гимназии, «в загорье, на речке Егошихе». Бродил по полям, ловил рыбу в реке, читал книги, решал мировые вопросы, влюблялся, как все русские юноши. В детстве был здоров и румян, в юности «делал революцию», потом несколько лет занимался адвокатской практикой. Ничем не выдающаяся судьба, ничем не замечательная жизнь. «Всю свою жизнь, — пишет М. Осоргин, — я прожил простым человеком, без всякой особенной биографии: родился от папы с мамой и т. д.» Может быть, будущий биограф Осоргина построит на подобных авторских утверждениях характеристику личности писателя и будет обсуждать их «искренность». Изучение психологии творчества в нашу задачу не входит. В заявлениях автора о его «обыкновенности» мы видим прежде всего художественный прием, связанный со всей его литературной манерой. Осоргину необходимо доверие читателя. Все, что он пишет должно производить впечатление непринужденной, безыскусственной беседы, интимного общения. Автор не сочиняет, не приукрашивает, а «просто» рассказывает то, что было, без литературных претензий. Он знает, что старая реалистическая манера, которой он остается верен, в наше время несколько обветшала; что многое в его рассказах может показаться «наивным и чувствительным» (по его собственному выражению) и, чтобы оправдать «старомодность» своего стиля, он прибегает к фикции «самого обыкновенного человека», который не пишет, атак «пописывает» -
«Писать, как пишут другие, что с детских лет ощущают трагизм бытия и веянье смерти, целый роман на такую тему — этого я по совести не могу, хотя знаю, что многим читателям это нравится». Совершенно ясно: литератором в том смысле, в каком это понимают теперь, после Пруста и Жида, писателем–модернистом, Осоргин быть не может и не хочет. А на упреки отвечает заранее: «Да что вы, какой я писатель, я самый простой обыватель!» Этот прием — наивного рассказчика — вполне в традиции русской литературы: Белкин у Пушкина, Рудый Панько у Гоголя, рассказчики у Тургенева. Простота и обычная форма — характерное для Осоргина стремление быть вне «литературы».
Этот выход из литературы удается ему блестяще. У читателя полная иллюзия простоты и правды: все надоевшие ему литературные условности как будто преодолены. Ни трагизма бытия, ни веяния смерти, ни философских глубин, ни психологических сложностей, ничего этого нет. И сюжеты самые обыкновенные и стиль как будто ничем не замечательный. Читателю кажется, что люди и предметы, о которых говорит Осоргин, существуют сами по себе, независимо от писателя; он входит в этот давно исчезнувший прекрасный мир, узнает знакомое и забытое, живет в нем, не оглядываясь на автора; а тот стоит в сторонке, в скромной роли гида. Цель его достигнута: реальность созданного им мира очищена от всякого привкуса «литературности». Снова оживлена и оправдана старая реалистическая манера; то, что казалось «вне литературы», стало искусством.
Осоргин своей простоте учился у Тургенева и Аксакова, он связан с ними не только литературно, но и кровно, от них у него — пристальность взгляда, чувство русской природы, любовь к земле, верность прошлому, светлая печаль по давно ушедшему. Его язык — выразительный и точный — близок народному складу. В нем есть вещественность и прямота, убеждающие нас сразу. Автор не боится показаться несовременным, напротив, он настаивает на своей старомодности и провинциальности. Этим мотивируется весь чувствительно–умиленный тон его писаний.