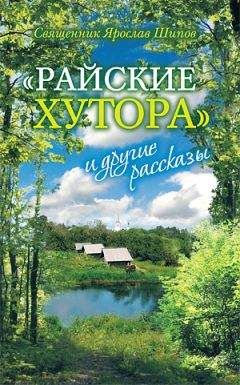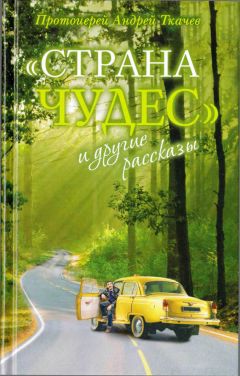Ярослав Шипов - "Райские хутора" и другие рассказы
Елены Павловны я не застал: мне рассказывали о ней ее внучки — дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в тысяча девятисотом году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из‑за любви, соединившей ее с молодым врачом: тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у них родились четыре дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. Два года оперировал в полевых госпиталях, затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще одна дочка — поскребышек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек, девочек, девочек и лишь одного мальчишку. Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам.
Младшая из внучек рассказывала, как, бывало, подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее. А та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает — русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернет голову — спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко — и спрашивает:
— Ты кто есть?
— Я — Люся.
— Люся… — бабушка задумывается. — А ты чья?
— Мамина и папина.
— Ну, это понятно. А маму твою как зовут?
— Мама Наташа.
— Такты, наверное, Натальина младшенькая… Ну ступай, ступай…
И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними.
— Неудивительно, — отвечала бабушка, — с мужчинами интереснее: я у них всю жизнь обучаюсь.
— Чему же ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности?
— Идеал не идеал, но этой самой женственности и учусь: учиться — не обязательно копировать. Глядя на мужа, я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое.
— А у Андрюшки ты чему учишься, ему же только пять лет?
— Вы, красавицы, в пять лет могли говорить лишь про бантики, а он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем. Как Жукова. Я ему все объясняю про отчества, про то, что он может быть только Николаевичем, а он послушал — послушал да и говорит: «Ну, тогда Александром Васильевичем». Как Суворова…
— Подумаешь! У нас — бантики, у них — ружья.
— Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя, и прежде всего на свою внешность. А он — только освоился печатные буквы складывать, сразу в храме записку подал: там и Александр, и Георгий, и еще два десятка имен. Спросила, кто это, он все объяснил: и Нахимов там есть, и атаман Платов — Матфеем зовут… Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить.
А когда ее спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке — рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала два обстоятельства: во — первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она совершенно справедливо считала главным богатством мужчины, а во — вторых, полетность…
Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую увлеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. «Вы теперь, кроме курятины, никакой «дичи» не знаете, — говорила Елена Павловна внучкам, — а меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами. И все это он добывал сам». А еще они каждую неделю ходили в консерваторию. Водили и дочерей, и даже обучали их игре на фортепиано — те с отличием оканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и через пять лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию. Впрочем, это обычная история.
После кончины супруга Елена Павловна нанялась в домработницы к оперному солисту Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей — навыка не имела. В доме певца часто бывали гости. Его супруга охотно помогала старушке и накрывала на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку: просил, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали… «Царственная», — восхищался хозяин.
Когда Елена Павловна преставилась, он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал: «Не было в моей жизни другого такого человека и не будет». Дочери плакали, а внучка вспомнила: «Подойдешь, бывало, засмотришься на нее, а она повернет голову эдак и спрашивает: «Ты кто есть?»».
Новоселки
Добираться туда легко: в девять вечера садишься на поезд, в три часа ночи слезаешь. Полтора километра по шпалам, столько же через лес — вот и весь путь. Брошенное поле, брошенная деревенька, на краю которой некогда стоял жилой дом.
В пору молодости своей, когда я познакомился с дедом Сережей и его старухой, были они уже людьми опустившимися. Не то чтобы совсем потеряли интерес к жизни — нет: что‑то ели, что‑то пили, слушали радиоприемник, даже мылись, наверное, иногда; однако они позволили жизни своей сделаться безобразною. Сережа уже почти не надевал протез — лежал целыми днями в грязной постели, курил, кашлял, плевался. Бабка хотя и совершала кое‑что по хозяйству, но без усердия: посуду она не мыла — суп всякий раз варился в одном чугунке и разливался в одни и те же тарелки. Стирала ли она — не знаю.
Да и все в доме у них было опустившимся: кобель — матерый гончак, — если случалось ему оказаться в избе, мочился на пол; кошки бродили по столу, добирая объедки; тараканов расплодилось такое множество, что они шуршащей коростой покрывали стены и потолок, кишмя кишели в дедовой койке, и он их разве что с лица прогонял.
Электричества в доме не было — отрезала власть, керосина у стариков не водилось, так что жили они без света. Ни разу не слышал я, чтобы вели они между собой человеческие беседы — только ругались, грязно и равнодушно. Сережа — кашляя, бабка — тонким гнусавеньким голоском.
Останавливаться у них не было никакой возможности, предпочтительнее оказывалось ночевать в полуразвалившихся избах брошенной деревни по соседству, но, наведываясь в те края, я всегда заходил к Сереже — оставлял батарейки для приемника и фонаря, чай и, быть может, еще что‑нибудь по мелочам.
Жизнь стариков делалась все более мерзостной. Наконец старуха не выдержала и ушла к сестре — в деревню километров за десять. Потом сгинул кобель: самостоятельно гоняя зайца в ночи, он вылетел к железнодорожному полотну и остановился, чтобы пропустить поезд, однако это был не обыкновенный поезд, а снегоочистительный, чего пес по азартности своей не заметил, — краем выдвижного бульдозерного ножа его и ударило.
Совершенно одичав от тоски, дед разыскал свою бабку и поджег избу — люди спаслись, но изба сгорела. Был суд: два года тюрьмы и тысячи рублей компенсации. Пустился дед Сережа отбывать срок, старуха же вернулась к кошкам и тараканам. Вскоре она сама выплатила сестре причитающуюся сумму: что‑то продала, сколько‑то заработала на бруснике, о чем‑то она, вероятно, могла договориться и по-родственному. Через год Сережа вернулся — совсем блатной, с наколками, покрывавшими чуть ли не все его тело, за исключением, понятное дело, отсутствовавшей ноги.
А еще через какое‑то время оба они убрались: дед преставился здесь, и последние его слова были матерными, старуха тихохонько отошла в новой избе сестры.
Печально, конечно, что жизнь этих людей так омрачилась к своему завершению; печально, что не осталось от них ничего — даже тараканов с кошками не осталось. Я был там недавно — на месте дома груда печных кирпичей да несколько поблескивающих хромированным металлом протезов, о которых дед Сережа, помнится, говорил, что они — один другого нескладнее. Всем им он предпочитал деревяшку… Кто и зачем спалил их дом — неизвестно, скорее всего, кто‑нибудь из местных: обычно подобное занятие — утеха молодых подвыпивших трактористов. Может, человек и родом из этой деревни был — новоселковский, а вот чтобы уж никому не досталось ни обогреться, ни переночевать. Горазды мы, как известно, родную землю поганить.
Сидя на валуне, подпиравшем некогда угол избы, я не без растерянности взирал на уголья: как же так — что‑то было, а теперь нет… Глупая, конечно, растерянность, да разве привыкнешь — тоскливо ведь. Тут, само собой, воспоминания кое — какие промелькнули, и вспоминалась все одна пакость. Как дед рассказывал про некогда соблазненную им девицу — учителку, присланную из города, — старуха слушала все это с очевиднейшим равнодушием, а потом, широко зевнув, добавила, что «у колхозной булгахтерши трое детей, а обличием все — в гада этого». Как коршун курицу прихватил, а я, увидев, бросился было из дома с ружьем, да старуха не выпустила: «Загубишь курицу!» В конце концов и курица сдохла, и коршун улетел, чтобы потом, в мое отсутствие, извести всех остальных кур. Вспоминал сонмище кошек: Сережа держал их вроде как для промысла — шапки шил.