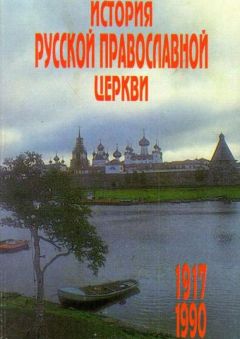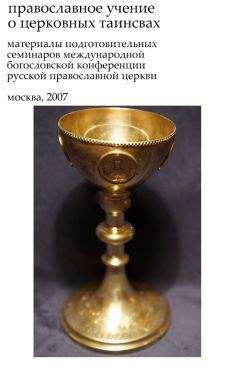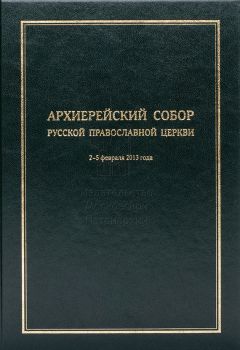Игорь Смолич - РУССКОЕ МОНАШЕСТВО Возникновение. Развитие. Сущность. 988—1917
В области древнерусской историографии особого уважения заслуживают труды другого Московского митрополита — Иоасафа. Иоасаф Скрипицын был вначале простым монахом, потом, с 1529 по 1539 г., настоятелем Троице–Сергиева монастыря. В 1539 г. он был настолован Московским митрополитом, но пребывал на этой высокой кафедре лишь до 1542 г., когда под давлением боярской клики, в пору малолетства Ивана IV, был насильственно сведен с престола и удален в Кириллов монастырь. В 1547 г. Иоасаф, не без покровительства со стороны митрополита Макария, получил позволение вернуться в Троице–Сергиев монастырь, там он и скончался в 1555 или 1556 г., 26 июня [827]. По своим аскетическим и церковно–политическим воззрениям он был очень близок к нестяжателям, поддерживал тесные отношения со знаменитым Максимом Греком, который благодаря его заступничеству был освобожден из монастырской темницы. Антииосифлянские воззрения Иоасафа очень сильно проявились в составленном им житии архиепископа Серапиона Новгородского и в критических замечаниях о Стоглаве [828]. Его церковные воззрения и отношение к идеологии «Москва — третий Рим» с особенной характерностью выразились в его «Исповедании», где он подчеркивает свою, Московского митрополита, каноническую связь с Константинопольским патриархом [829]. Для своего времени Иоасаф был очень образованным архиереем, у него была собственная библиотека, он участвовал в редактировании Типикона (его богослужебной части), переработка которого производилась в Троице–Сергиевом монастыре. В последнее время историки русской литературы пришли к выводу, что Иоасаф был одним из авторов или даже главным автором западнорусской редакции Хронографа и Никоновской летописи, которая составлена была в середине XVI столетия [830].
Особого внимания заслуживает также Корнилий, настоятель Псково–Печерского монастыря (1529–1570) [831]. В сане игумена Корнилий проявил себя как выдающаяся личность. Он заботился об устройстве монашеского быта, руководил возведением новых строений в монастыре, с успехом занимался христианским миссионерством среди языческого населения Эстонии, много внимания уделял поощрению иконописания в обители. Возведенные им новые строения — а точнее, мощная крепостная стена вокруг монастыря — сыграли в его судьбе роковую роль. Во время посещения монастыря в 1570 г. царь Иван IV, который вел тогда изнурительную и неудачную войну с польским королем Стефаном Баторием, обвинил настоятеля в предательстве: Корнилий, мол, возвел эту каменную стену против его войск в поддержку Стефана; царь ударил секирой старого, почтенного игумена и зарубил его насмерть. В монастырском синодике об этом событии повествуется так: «От тленного сего жития земным царем предпослан к Небесному Царю в вечное жилище в лето 7078 (1570) февраля в 20 день» [832]. Останки мученика сохранились нетленными, и Корнилий стал почитаться в монастыре и в окрестных местах как святой [833]. В новейшее время установлено, что игумен Корнилий был главным составителем Псковской летописи в составе Свода 1547 г. [834] Корнилий написал также «Летопись Печерского монастыря». Характерно, что, изучая историю создания своей обители, Корнилий подверг источники, часто переполненные легендарным материалом, строгой, можно сказать, научно–исторической критике и писал свою «Летопись» на основе тщательно выверенного материала. В этом смысле Корнилий был одним из первых на Руси, кто применил критический метод в историографии. «Летопись Печерского монастыря», к сожалению, не позволяет нам сделать выводов о церковно–политических воззрениях ее автора — был ли он близок к иосифлянам или нестяжателям, ибо в своем кратком и ясном повествовании, верном историческим фактам, он избегает высказываться по вопросам, которые разделяли две эти партии. Св. игумен Корнилий предстает перед нами как образованный человек своего времени, с энергичным, деловым характером, как строгий настоятель, деятельность которого по управлению Печерским монастырем стояла на определенной аскетической высоте. Мученическая кончина окружила его образ множеством легенд, которые ревностно хранились последующими поколениями монастырской братии и укрепляли в народе благоговейное отношение к святому. Но историк ценит игумена Корнилия и без этих легенд как одного из последних представителей лучших кругов монашества Московской Руси XVI в.
6. Сочинения монаха Ермолая–Еразма
Обзор многосторонней деятельности писателей XVI столетия, принадлежавших к монашеству, будет неполным, если не упомянуть одного из самых оригинальных авторов среди них. Эта личность привлекла к себе внимание историков литературы лишь в последнее время: мы говорим о Ермолае Прегрешном, или Ермолае–Еразме. О жизни его известно очень мало, лишь отдельные моменты. Мы знаем только, что деятельность его приходится на середину XVI в.; он был, вероятно, протопопом Спасской церкви в Москве в 1550–1555 гг., позднее постригся в монахи; Ермолай принадлежал к окружению митрополита Макария в 50–е гг., когда впервые проявила себя в литературных трудах та русская «интеллигенция», благодаря образованности которой осуществились грандиозные литературные предприятия митрополита. В этом кругу Ермолай–Еразм выступил как незаурядный публицист, не без оригинальности ответивший на некоторые вопросы, связанные с социальными отношениями своей эпохи [835]. Ему приписывается 16 разных сочинений, из которых 11, вне всяких сомнений, написаны действительно им.
В первую очередь заслуживает упоминания «Ко своей ему душе поучение», лирическое размышление о смысле покаяния вообще и в особенности для тех, кто облечен властью и правом суда, об их религиозной ответственности, о нравственной опасности сановного высокомерия, «сана земного величия». При этом автор не забывает напомнить, что духовная власть распоряжается душой, а светская — лишь телом человека [836]. Замечательна и его «Книга о Святой Троице». Ермолай пытается в ней показать, что принцип троичности лежит в основе «всех вещей». В первой части «Книги» он излагает православное учение о Святой Троице, опираясь на хорошо подобранные цитаты из Священного Писания. Но троичность, по мнению Ермолая, свойственна всей вселенной — об этом он пишет во второй части «Книги». Человек как высочайшее творение непредставим без единства в тройственности, ибо его составные части — дух, душа и тело — могут существовать лишь благодаря такому единству, и наоборот, без этих трех частей человеческое существо не может быть целостным и гармоничным. Третью часть «Книги» составляют молитвенные обращения к Святой Троице, изложенные в поэтической форме [837]. Размышления Ермолая, написанные не без отчетливости и внутренней логики, отличаются простотой языка и выражений, их автору нельзя отказать в знаниях и богословском образовании.
Свойствен Ермолаю и интерес к социальным проблемам. Сохранилось его нравственно–богословское размышление под названием «Слово о рассуждении любви и правде и о побеждении вражде и лже» [838], в котором автор высказывает свою точку зрения на социальное неравенство в московском обществе 50–х гг. XVI в. Московские верхи, «вельмож», он обвиняет в недостатке христианской любви; их достояние умножается ценой нужды других, действительно трудящихся слоев народа, главным образом тех, которые поддерживают свое скудное существование тяжелым ежедневным трудом. Эти утверждения Ермолая–Еразма напоминают нам замечания князя–инока Вассиана о социальном неравенстве в московском обществе и слова митрополита Иоасафа о податном бремени, которое угнетало крестьянство середины XVI в. [839] Еще характернее его «Послание к царю» Ивану, а также трактат о хозяйственном значении крестьянского сословия, который он преподнес царю. Здесь он излагает программу неотложных земельных реформ, которые благодаря справедливому распределению земли и снижению податей (до 1/5 урожая!) могли бы улучшить положение крестьян и за счет этого укрепить их производительные силы. В результате, считает Еразм, повысится общее благосостояние царства и исполнены будут христианские заповеди справедливости и любви, к вящей славе царя. Попутно автор высказывает некоторые замечания о состоянии торговли и предлагает различные улучшения [840].
Сочинения этого своеобразного «специалиста» в монашеском клобуке характерны, может быть, не столько для монашества, сколько для общей картины эпохи, — эпохи не меньшего исторического напряжения, чем время петровских реформ, и не меньшего значения для судеб России. Когда историк пытается обнаружить в реформах Петра причины и корни различных явлений русской истории — политической, социальной, хозяйственной и церковно–политической, — он приходит к выводу, что корни эти лежат намного глубже, что они восходят к XVI в., главным образом к 1–й половине столетия. Хотя, возможно, по меркам и представлениям нынешнего времени все эти деятели, выступившие на церковно–политической и культурной сцене, лишены особой значительности, но для своей эпохи, для ее культурной и церковно–политической атмосферы, они были фигурами крупными и характерными.