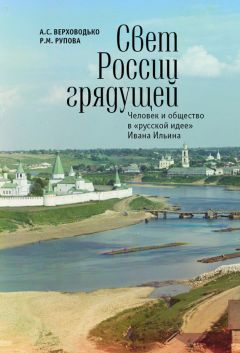Николай Никольский - История русской церкви
Пестрота составных элементов хлыстовщины отразилась самым ярким образом на идеологии секты. Возникнув в крестьянской среде, идеология хлыстовщины сохранила в качестве основного тона крестьянский колорит, в особенности в области верований, не шедших далее примитивных воззрений крестьянской религии; но хлыстовская легенда и мораль подверглись в городской среде соответствующей обработке и приобрели черты двойственности. Также и практика — обрядовая и организационная сторона — в городских общинах окрашена некоторыми специфическими чертами, отражающими те запросы, с которыми подходил к ним крепостной крестьянин, с одной стороны, и начинающий капиталист, с другой стороны. Эта пестрота и двойственность постоянно будут встречаться нам при анализе идеологии и практики хлыстовщины.
Новое откровение, которого искала хлыстовщина, является вполне твердым лишь в 12 заповедях Данилы, в которых содержатся практические правила элементарной морали, вроде запрещения кражи, блуда, пьянства, и предписания о дружбе, гостеприимстве и молитве. Характерно, что все это типичные требования бюргерской /283/ морали, в особенности запрещение кражи, блуда и пьянства и требование гостеприимства. Барщинному крестьянину, находившемуся на положении раба, они чужды и не нужны, но на их соблюдении строил успех своего накопления оброчный крестьянин в городе. Начинающий капиталист всегда строг в требованиях для других и снисходителен к себе; поэтому он всегда за твердые правила, подкрепляемые угрозами там, где это нужно; и мы видим, что за нарушение заповеди о запрещении воровства хлыстовская мораль грозит самыми страшными карами на том свете. Остальное содержание хлыстовского откровения, касающееся области верований, было текучим и по своим основным чертам было сходным с анимистической крестьянской идеологией; влияние города лишь изредка проскальзывает в отдельных нотках. Текучесть откровения определялась тем способом, посредством которого хлысты его получали. Откровение дается «духом», которому надо верить; «дух» сходит на сектантов во время их радений, открывает им истину и дает блаженство. Однако содержание этой области откровения, несмотря на его текучесть, окрашено некоторыми неизменяемыми тонами, восходящими, очевидно, к самым первым моментам возникновения секты и ставшими чем-то вроде традиционных границ, поставленных хлыстовскому мифотворчеству крестьянским миросозерцанием, в котором анимистическая мифология переплеталась с элементами христианской мифологии, поскольку эта последняя была знакома крестьянству из христианского богослужения. Только откровение о будущем, хлыстовская эсхатология, до известной степени выходит из этих традиционных рамок, раскрывая мечты хлыста о той воле, которая сейчас казалась ему лишь схваченной, но еще не пойманной окончательно птицей.
Хлыстовский миф прежде всего останавливается на характеристике «духа». «Дух» хлыстов — это старое славянское «красное солнышко», которое обогреет их, измученных морозами, «сирот бедных». В других хлыстовских песнях дух изображается или в виде молодца, разгуливающего по саду с гусельками, или сокола ясного, или соловья, поющего в сердце у батюшки. Саваоф и Христос, правда, снабжаются всеми атрибутами божества — и всеведением, и всемогуществом, и милосердием; они окружены ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. Но в то же время, изображая величие своих божеств, хлысты не могли отрешиться от представления /284/ о своих земных царях и богах: на седьмом кебе у Саваофа дворец, в нем он «ликует»; в кабинете (!) его «ангелы трепещут, его на престоле они всегда тешут»; Христос— царский сын в смарагдовой короне, полковник полковой; на седьмом небе у него тоже «грады, зелены сады, троны, дворец, золотой престол» и… канцелярия, где ангелы записывают имена сектантов в книгу животную; богородица — царица-матушка, у нее на небе терем и служат ей, как барыне-помещице, девушки, целые полки девические, которые ходят по зеленому саду, рвут яблоки, кладут их на золотое блюдо и подносят их царице-матушке. С другой стороны, богородица отождествляется с «матерью святой землей», насыщающей людей своими дарами.
Рядом с этим бог изображается в песнях и в таком виде, что его не отличишь от простого мужика. Бог сам варит «пиво» для хлыстовских радений, а богородица и дух помогают: Ай, кто пиво варил? Ай, кто затирал? Варил пивушко сам бог, Затирал святой дух, Сама матушка сливала, Вкупе с богом пребывала, Святы ангелы носили, Херувимы разносили, Херувимы разносили, Серафимы подносили.
Это «пиво», нечто вроде божественной сомы[79] индусов, и нарисовало хлыстам изображенный в песне хлыстовский Олимп, сотканный из странной смеси старинных анимистических воззрений, христианской мифологии и привычных представлений холопствующего миросозерцания крестьянства.
Седьмое небо, где в образе доброго барина и доброй барыни живут бог и богородица, — предмет страстных желаний и всех помышлений сектантов. В здешнем мире последователей Данилы Филипповича за соблюдение веры и ее тайны бьют кнутом, жгут огнем; приходится им терпеть, убегать, как делали первые последователи секты, которым в костромских лесах приходилось «листом, кореньем питатися», жить нагими, «зноем опаляться /285/ и хладом омерзати». Но Данила заповедал терпеть: «Кто вытерпит, тот будет верный, получит царство небесное, а на земле духовную радость», — говорится в его 10-й заповеди. Практика хлыстовщины и заключалась в том, чтобы терпеть и отдыхать только на радениях, где человек получал земную радость, предвосхищая небесное блаженство.
Культ хлыстовщины весь направлен к одной цели: дать человеку эту духовную радость, которая для крестьянской эксплуатируемой массы была своеобразным гашишем, самоодурманиванием, а для буржуазных верхов — средством властвования над сектантскими низами. Несомненно, что первоначально эта духовная радость приравнивалась к вхождению в человека «духа» и достигалась простым верчением по кругу, мистическим хороводом, подобно тому как прибегали к такому же кругу для получения «духа» крестьянские староверы XVII в. Но с течением времени хлыстовское радение сделалось своеобразным обрядом, обставленным некоторыми подготовительными упражнениями и происходившим по определенному чину. Подготовительные церемонии мотивировались общераспространенным в мистических сектах взглядом, что божественный дух не может сойти на человека нечистого, окруженного злыми духами, происшедшими от душ умерших злых людей и постоянно искушающими верных; с другой стороны, плоть человека сама по себе есть зло, от нее происходят искушения и грех. Для получения духовной радости надо очистить плоть, эту «нечистую свинью», аскетическими подвигами. Заповеди Данилы содержали уже некоторые аскетические предписания: «Хмельного не пейте, плотского греха не творите; не женитесь, а кто женат, живи с женою, как с сестрой; неженимые не женитесь, женимые разженитесь». Практика показала, что этих заповедей недостаточно, и в последующее время выдвинулось требование поста перед радениями. Исполнять такой закон было трудно; это был закон «не простой, не простой — трудовой, трудовой — слезовой»; но зато и велика была «духовная радость», которую получали хлысты на радениях.
Акты следственной комиссии 1732–1733 гг. поднимают до известной степени завесу над тайною обрядностью хлыстовских радений XVIII в., происходивших «с прилежным укрывательством». После общей трапезы собравшиеся хлысты садились на лавках, мужчины и женщины друг против друга, под председательством /286/ «оной прелести предводителя, мужа или жены», или, по терминологии сектантов, кормщика или кормщицы «корабля»; предварительно все переодевались в белые, «радельные» рубашки, длинные, доходившие почти до пят, или принесенные с собой, или розданные кормщицей «корабля». Затем, после протяжной вступительной песни, кормщик или кормщица давали благословение по очереди всем присутствовавшим, и один за другим последние пускались парами в быструю пляску, с высоким подскакиванием, с пением, переходившим под конец в дикие выкрикивания; некоторые били себя в то же время жгутами, палками, цепами. Эта пляска и самоистязание приводили сектантов одного за другим в состояние религиозного экстаза; им казалось, что их поднимал сам святой дух, по слову пророка «вселюся в них и похожду». Пение, сначала тихое и медленное, превращалось в быстрый и громкий припев: Катает у нас в раю птица, Она летит, Во ту сторону глядит, Да где трубушка трубит, Где сам бог говорит: Ой, бог! Ой, бог1 Ой, бог! Ой, дух! Ой, дух! Ой, дух! Накати, накати, накати! Ой, Era! Ой, Era! Ой, Era!
«По таковом бешеном бегании» наступал момент высшей «духовной радости»: некоторые из присутствовавших падали в полуобморочном состоянии на пол и начинали изрекать пророчества; в этот момент, по мнению хлыстов, на них уже сошел дух, и пророки говорят не от себя, а от духа: Накатил, накатил Дух свят, дух свят! Царь дух, царь дух! Разблажился, разблажился Дух свят, дух свят, Ой, горю, ой, горю! Дух горит, бог горит, Свет во мне, свет во мне, Свят дух, свят дух!


![Николай Саврасов - Люди Солнца[СИ]](/uploads/posts/books/107446/107446.jpg)